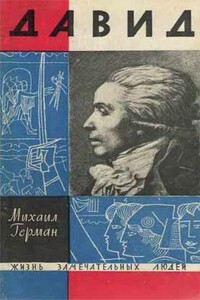Хогарт - [76]
В тридцать пять лет он не только был знаменит, но близко сошелся и с Гарриком, и с Джонсоном (с которым Хогарт был едва знаком), и со многими другими знаменитостями. И Хогарт иногда начинал чувствовать вокруг себя холодную, пугающую пустоту.
Рейнольдс тоже стал излагать в печати свои взгляды на искусство, и начал с нападок на Хогарта. Он знал, кто больше всех противится созданию Академия, о которой он, Рейнольдс, мечтал уже давно.
Он не старался «поставить Колумбово яйцо». Он просто писал изящным слогом статьи, где то откровенно, то намеками чернил «Анализ красоты». Хогарт был достаточно умен, чтобы понять: новый противник не чета его прежним соперникам, сводящим старые счеты. Пришло новое поколение. Это было горько, спорить с Рейнольдсом не хотелось. У него едва хватало сил отвечать на нападки Сэндби и его приятелей.
Но самое поразительное, что он продолжал работать с неостывающим жаром, будто предчувствуя, что судьба оставила ему совсем немного дней.
Еще в 1756 году он написал огромную алтарную картину для бристольской церкви святой Марии, даже не картину, а целый триптих — «Положение во гроб», «Вознесение» и «Три Марии», — последняя попытка создать нечто великое и сравняться со старыми мастерами, трогательная смесь подлинного таланта и наивных заимствований у Рафаэля, Риччи и Маньяско. Страшно представить себе, что старый, усталый художник — ему шел уже шестидесятый год — с мучительной надеждой тратил недели и месяцы, создавая картины, которые историки упоминают сейчас почти с чувством неловкости. А ведь были и бессонные ночи, и радость от удачно написанных кусков, и минуты внутреннего торжества!
Но этого мало. Он пишет светские занимательные картинки, пишет мрачную сатиру «Суд» — жуткий и постыдный образ британской юстиции, пишет портреты и делает, наконец, патриотические карикатуры — свидетельство последней вспышки хронической галлофобии. Это две гравюры «Нашествие», сделанные с энтузиазмом, достойным собравшегося в поход Джона Буля: французы на них отвратительны, а англичане веселы, добродушны и заведомо непобедимы. Ну что ж, в конце концов его можно было попять: шла война, он был патриотом, и с французами у него были давние и неприятные счеты. Тут уж им владели чувства, не знакомые новому поколению, он был преисполнен любви к «доброй старой Англии», хотя нынешняя Англия раздражала его безмерно.
А возможно, он просто начинал стареть.
МИСТЕР ХОГАРТ СТАРЕЕТ
Стариком в полной мере он стать не успел. Старость давала о себе знать изредка и коварно. Иногда он просто плохо себя чувствовал. А иногда совершал вздорные, смешные поступки.
Так, еще в 1757 году он глупо поссорился с Гарриком. Именно он, Гаррик, с ним просто поспорил, ему показалось, что на новом, писанном Хогартом портрете, он мало похож.
И Хогарт не нашел ничего лучшего, как замазать лицо грязной кистью, чем, естественно, привел портрет в совершенно негодное состояние.
А портрет был отменный, живой и изящный, как сам Гаррик, хотя, может быть, и чересчур изящный: актер в синем кафтане, с розой на груди за работой над прологом к комедии Фута «Вкус», и рядом с ним в нежно-желтом платье его прелестная юная жена Ева-Мария, шаловливо отнимающая у него перо. Один из лучших его портретов!
И хотя говорят, что Хогарт откровенно подражал одному из портретов Ван-Лoo, но это, право же, пустяки! Портрет Ван-Лoo был посредственный, а Хогарт написал зрелый, мудрый и веселый портрет. Шекспир, как известно, тоже пользовался чужими сюжетами!
Несмотря на некоторые огорчительные возрастные причуды, он сохранял присущую ему тонкость мышления. Достаточно сказать, что он читал, и читал с удовольствием «Тристрама Шенди», что, как известно, требует изощренной восприимчивости и способности непредвзято судить о новой, необычной литературной манере.
Доказательством тому отличный рисунок для фронтисписа первого выпуска «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена», сделанный по собственной просьбе Стерна, большого почитателя нашего художника. Стерн сам недурно рисовал, хорошо чувствовал искусство и просто мечтал, чтобы Хогарт сделал рисунок к «Тристраму». Хогарт сделал именно то, о чем просил через своего приятеля Стерн, — нарисовал капрала Трима, читающего проповедь. Конечно, это не самая суть книги, но так нарисовать ее персонажей мог только художник, оценивший стилистику Стерна, ритм его прозы, горьковатую печаль веселых суждений. А ведь этот писатель читался трудно.
Мистер Лоренс Стерн был чрезвычайно доволен рисунком.
Но они, кажется, так и не встретились, а если им и случилось все же познакомиться, то сколько-нибудь любопытных сведений об этом нет.
И портрет Стерна написал не Хогарт, а все тот же Рейнольдс. В чем-то жизнь начинает проходить мимо, соприкосновение Хогарта со Стерном до боли крошечное, в сущности несовершившееся. А ведь оба, каждый по-своему, заглянули в будущее.
Собственно говоря, печальные признаки старости могли и вовсе бы остаться незамеченными, если бы срок жизни художника не был измерен, если бы поневоле настороженный взгляд биографа не искал в поступках и мыслях героя приметы близящегося заката.
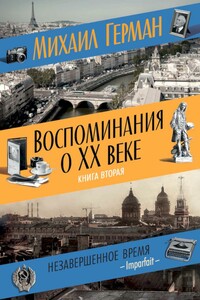
«Воспоминания о XX веке: Книга вторая: Незавершенное время: Imparfait» — новая дополненная версия мемуаров известного историка искусства Михаила Юрьевича Германа (ранее они публиковались под названием «Сложное прошедшее»). Повествование охватывает период с 1960-х годов до конца XX века. Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного. Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.

Эта книга рассказывает об одном из величайших художников Франции минувшего века, Оноре Домье.В своих карикатурах Домье создал убийственный сатирический портрет деятелен буржуазной монархии, беспощадно высмеивал мещанство и лицемерие. Бодлер говорил, что ярость, с которой Домье клеймит зло, «доказала доброту его сердца». И действительно, суровость искусства Домье продиктована любовью к людям. Рабочие, бойцы на баррикадах, нищие актеры, художники — целый мир мужественных, стойких и чистых сердцем людей оживает в картинах Домье.Домье всегда был бойцом.
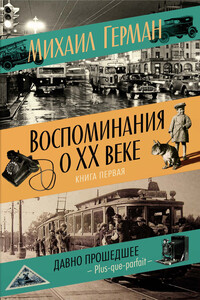
«Воспоминания о XX веке. Книга первая: Давно прошедшее» — новая, дополненная версия мемуаров известного историка искусства Михаила Юрьевича Германа (ранее они публиковались под названием «Сложное прошедшее»). Повествование охватывает период с середины 1930-х до 1960-х. Это бескомпромиссно честный рассказ о времени: о том, каким образом удавалось противостоять давлению государственной машины (с неизбежными на этом пути компромиссами и горькими поражениями), справляться с обыденным советским абсурдом, как получалось сохранять порядочность, чувство собственного достоинства, способность радоваться мелочам и замечать смешное, мечтать и добиваться осуществления задуманного. Богато иллюстрированная книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
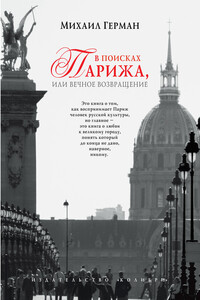
Книга известного петербургского писателя Михаила Германа «В поисках Парижа, или Вечное возвращение» – это история странствий души, от отроческих мечтаний и воображаемых путешествий до реальных встреч с Парижем, от детской игры в мушкетеров до размышлений о таинственной привлекательности города, освобожденной от расхожих мифов и хрестоматийных представлений. Это рассказ о милых и не очень подробностях повседневной жизни Парижа, о ее скрытых кодах, о шквале литературных, исторических, художественных ассоциаций.
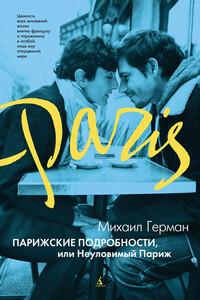
Книгу известного петербургского писателя Михаила Германа «Парижские подробности, или Неуловимый Париж» можно было бы назвать чрезвычайно живым и во всех отношениях красочным дополнением к недавно вышедшей книге «В поисках Парижа, или Вечное возвращение», если бы она не была вполне самодостаточна. И хотя в ней намеренно опущены некоторые драматические и счастливые страницы длинной «парижской главы» в биографии автора, перед читателем во всем блеске предстает калейдоскоп парижских подробностей, которые позволяют увидеть великий город так, как видит и ощущает его Михаил Герман, – именно увидеть, поскольку свой рассказ автор иллюстрирует собственными цветными и черно-белыми фотографиями, с помощью которых он год за годом стремился остановить дорогие ему мгновения жизни непостижимого, неуловимого Парижа.В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
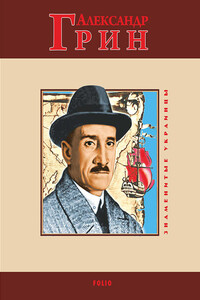
Русского писателя Александра Грина (1880–1932) называют «рыцарем мечты». О том, что в человеке живет неистребимая потребность в мечте и воплощении этой мечты повествуют его лучшие произведения – «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Блистающий мир». Александр Гриневский (это настоящая фамилия писателя) долго искал себя: был матросом на пароходе, лесорубом, золотоискателем, театральным переписчиком, служил в армии, занимался революционной деятельностью. Был сослан, но бежал и, возвратившись в Петербург под чужим именем, занялся литературной деятельностью.

«Жизнь моя, очень подвижная и разнообразная, как благодаря случайностям, так и вследствие врожденного желания постоянно видеть все новое и новое, протекла среди таких различных обстановок и такого множества разнообразных людей, что отрывки из моих воспоминаний могут заинтересовать читателя…».

Творчество Исаака Бабеля притягивает пристальное внимание не одного поколения специалистов. Лаконичные фразы произведений, за которыми стоят часы, а порой и дни титанической работы автора, их эмоциональность и драматизм до сих пор тревожат сердца и умы читателей. В своей уникальной работе исследователь Давид Розенсон рассматривает феномен личности Бабеля и его альтер-эго Лютова. Где заканчивается бабелевский дневник двадцатых годов и начинаются рассказы его персонажа Кирилла Лютова? Автобиографично ли творчество писателя? Как проявляется в его мировоззрении и работах еврейская тема, ее образность и символика? Кроме того, впервые на русском языке здесь представлен и проанализирован материал по следующим темам: как воспринимали Бабеля его современники в Палестине; что писала о нем в 20-х—30-х годах XX века ивритоязычная пресса; какое влияние оказал Исаак Бабель на современную израильскую литературу.
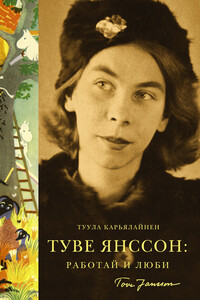
Туве Янссон — не только мама Муми-тролля, но и автор множества картин и иллюстраций, повестей и рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем мире, более чем на сорока языках. Туула Карьялайнен провела огромную исследовательскую работу и написала удивительную, прекрасно иллюстрированную биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве Янссон вплетена в историю XX века. Проведя огромную исследовательскую работу, Туула Карьялайнен написала большую и очень интересную книгу обо всем и обо всех, кого Туве Янссон любила в своей жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.