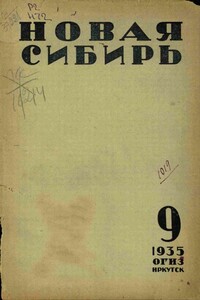Хлеб насущный - [3]
— Осподи... Владычица... Святые угодники!..
Одна из женщин рванулась к мешкам с хлебом, развязала один из них и позвала:
— Гляди-ко, баушка, какой хлеб! Гляди!..
Тогда старуха словно ожила. Увидев тускло блеснувшую волну зерна, которое женщина пересыпала с ладони и между пальцев, бабка кинулась к мешку, припала к пахучему хлебу, зачерпнула горсть крупных, холодных зерен, — с пальцев ее потекла золотистая струя, — и всхлипнула:
— Хлебушко!.. Осподи!.. Всамделе, наш это? Поликарп, мужики, да вы не омманываете ли? Вы правду сказывайте!..
Ерохин, председатель, посмеиваясь глазами, слегка отодвинул бабку от весов,
— Да сказали ведь уж тебе, ты верь!.. А в обчем, не мешай! Вишь, сколько надо на весы перекласть!..
5
Когда последний воз выехал со двора и багряный трепет знамени мелькнул за воротами в последний раз и в последний раз весело всхлипнула гармонь, бабка, застыло и взволнованно приглядывавшаяся к тому, как взвешенный хлеб переносили в амбар и как там становилось от него тесно, — встрепенулась. Вдруг налилась она силою, кипучей деятельностью и проворством.
— Поликарп! — крикнула она, и голос ее зазвучал по-новому. — Запирай ворота...
— Зачем? — спросил сын, разгребавший лопатой в сусеках зерно.
— Зачем!? — пылая заботою и нетерпением, озлилась бабка. — Эка благодать хлеба, неуж его не хранить!.. Да оборони осподь, мало ли лихих людей!.. Ворота теперь на-проходь надо назаперти доржать. Караулить надо...
— Ладно, — махнул рукою сын. — Ладно, мать. Наскажешь ты...
Бабка сама прошла к воротам, оглядела тяжелый засов, попробовала его поднять слабыми руками своими. Бабка стала метаться по двору, что-то приговаривая, что-то говоря сама с собою.
Поликарп обгладил в сусеках зерно, полюбовался на свой заработанный хлеб, вышел из амбара и усмехнулся: больше половины осталось в мешках возле амбара. Сыпать в амбар больше некуда было. Пришла забота убрать хлеб в подходящее место. Поликарп стал соображать. Раздумчиво пошел он в избу, не запирая амбара.
Дома посадил Поликарп среднего парнишку за стол рядом с собою и коротко приказал:
— Бери карандаш да бумагу. Записывай...
Парнишка наладился писать.
— Пиши... Каперации продам, скажем, тридцать центнеров. Пиши: тридцать... На базар возить стану... Положи еще тридцать. На прокорм домашности надо считать не менее тридцати пяти. Написал?.. Сколько, считай, выходит?
— Тридцать, да тридцать, да тридцать пять — выходит девяносто пять.
— Девяносто пять... — задумался Поликарп. — А всего сто двадцать семь... Это сколь, Василий, остается?
— От ста двадцати семи отнять девяносто пять... Остается тридцать два, — гордо высчитал Василий.
— Тридцать два... — покрутил головой Поликарп. — Без малого двести десять пудов... Слышь, Василий, это куда же мы такую гору хлеба сбуровим? Куда? — выправляясь и сияя широкой усмешкой, повторил Поликарп.
— Куда-нибудь... — неопределенно решил Василий.
— Помешшики мы с тобой теперь, Василий! — захохотал Поликарп. — Первой гильдии купцы!
В избу ворвался самый младший, Колька.
— Тять! — запыхавшись, крикнул он. — Гляди-ка, баушка-то там!..
— Чего бабушка?
— Да ты пойди, погляди, погляди, тять!... Она там в амбаре... Скорей!
Поликарп быстро пошел на зов сынишки. Василий проворно кинулся за ним.
— Вы только тише! — предупредил Колька.
— Пошто?
— А вот увидите...
6
Бабка уследила, когда Поликарп ушел в избу, и, оставшись одна, проскользнула в амбар. Запах хлеба опьянил ее. Она подошла к сусекам, протянула руки и по локоть погрузила их в сыпучее зерно. Она почувствовала живое шевеление, зажмурилась. Зерно щекотало ее выдубленную, сморщенную кожу и это щекотание было ей отрадно. Она погружала руку все глубже и глубже. Рукава шубы мешали ей, тогда она проворно скинула ее с себя и врылась руками по самые плечи.
Бабка ласкала хлеб, обнимала его, впитывала его пыльный и свежий запах, вбирала в себя его щекотание, его льющийся шорох, его острый холодок. Усмешка, неожиданная и необычайная для нее, тронула ее потрескавшиеся тонкие, завалившиеся губы. Ее беззубый рот скривился. Глаза ожили, сверкнули тусклым, но теплым блеском. Бабка зашевелила губами, как в украдчивой молитве. Бабка зашептала. Сначала беззвучно, но временами сквозь беззвучный шопот стали прорываться слова, выкрики, беспорядочные, отрывистые, то громкие и внятные, то непонятные и дикие.
Бабка бормотала, вскрикивала. И чем дальше, тем громче и тем безумней были ее вскрики.
— Хлебушко... Осподи... Хлеб наш насущный... Хлебушко мой родимый!... Наш! наш! наш!... Мой хлебушко!.. Матушка владычица!..
Она месила окрепшими вдруг, внезапно ставшими сильными руками зерно, как тесто, вытаскивала из него руки, взбрасывала вверх горстями хлеб и снова утопала в зерне. Она безумела.
— Мой! мой!... мой! мой!... — исступленно выкрикивала она. — Мой хлебушко!..
В полумгле амбара плавали смутные тени. Через полуоткрытые двери сеялся зимний солнечный день. От старухиных порывистых движений длинный луч, тянувшийся от двери к закромам, ломался и дрожал. И в этом дрожании и трепете узкой полосы мерцающего света вздрагивающая и подплясывающая старуха казалась страшной и угрожающей.

В повести «Сладкая полынь» рассказывается о трагической судьбе молодой партизанки Ксении, которая после окончания Гражданской войны вернулась в родную деревню, но не смогла найти себе место в новой жизни...

Роман Гольдберга посвящен жизни сибирской деревни в период обострения классовой борьбы, после проведения раскулачивания и коллективизации.Журнал «Сибирские огни», №1, 1934 г.

Общая тема цикла повестей и рассказов Исаака Гольдберга «Путь, не отмеченный на карте» — разложение и гибель колчаковщины.В рассказе, давшем название циклу, речь идет о судьбе одного из осколков разбитой белой армии. Небольшой офицерский отряд уходит от наступающих красных в глубь сибирской тайги...

Одним из интереснейших прозаиков в литературе Сибири первой половины XX века был Исаак Григорьевич Годьдберг (1884 — 1939).Ис. Гольдберг родился в Иркутске, в семье кузнеца. Будущему писателю пришлось рано начать трудовую жизнь. Удалось, правда, закончить городское училище, но поступить, как мечталось, в Петербургский университет не пришлось: девятнадцатилетнего юношу арестовали за принадлежность к группе «Братство», издававшей нелегальный журнал. Ис. Гольдберг с головой окунается в политические битвы: он вступает в партию эссеров, активно участвует в революционных событиях 1905 года в Иркутске.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) до революции был активным членом партии эсеров и неоднократно арестовывался за революционную деятельность. Тюремные впечатления писателя легли в основу его цикла «Блатные рассказы».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
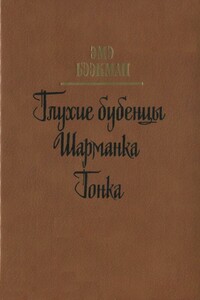
В предлагаемую читателю книгу популярной эстонской писательницы Эмэ Бээкман включены три романа: «Глухие бубенцы», события которого происходят накануне освобождения Эстонии от гитлеровской оккупации, а также две антиутопии — роман «Шарманка» о нравственной требовательности в эпоху НТР и роман «Гонка», повествующий о возможных трагических последствиях бесконтрольного научно-технического прогресса в условиях буржуазной цивилизации.

Прозу Любови Заворотчевой отличает лиризм в изображении характеров сибиряков и особенно сибирячек, людей удивительной душевной красоты, нравственно цельных, щедрых на добро, и публицистическая острота постановки наболевших проблем Тюменщины, где сегодня патриархальный уклад жизни многонационального коренного населения переворочен бурным и порой беспощадным — к природе и вековечным традициям — вторжением нефтедобытчиков. Главная удача писательницы — выхваченные из глубинки женские образы и судьбы.

На примере работы одного промышленного предприятия автор исследует такие негативные явления, как рвачество, приписки, стяжательство. В романе выставляются напоказ, высмеиваются и развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отлаженную систему личного обогащения за счет государства. В подходе к некоторым из вопросов, затронутых в романе, позиция автора представляется редакции спорной.

Сюжет книги составляет история любви двух молодых людей, но при этом ставятся серьезные нравственные проблемы. В частности, автор показывает, как в нашей жизни духовное начало в человеке главенствует над его эгоистическими, узко материальными интересами.

Маленький человечек Абрам Дроль продает мышеловки, яды для крыс и насекомых. И в жару и в холод он стоит возле перил каменной лестницы, по которой люди спешат по своим делам, и выкрикивает скрипучим, простуженным голосом одну и ту же фразу… Один из ранних рассказов Владимира Владко. Напечатан в газете "Харьковский пролетарий" в 1926 году.