Харбинские мотыльки - [6]
Я бы писал всю ночь. Какое это облегчение! — керосиновая лампа, подушка, стол, стул, тахта, печь и шкап — тут жил музыкант, остались вещи: одеяло, сундук, книги, большие кожаные переплеты, как в библиотеке.
Общая кухня, вход со двора. Я прожил у Н. Т. почти год. Я знал, что это должно произойти, но не был готов. Ни к этой комнате, ни к этим сборам, не был готов к этой тахте, к тому, как мне вручили подушку, ключ на шнурке. Винтовая лестница, ножки стола гуляют. Н. Т. стал искать, что бы такое подложить под ножку стола, — он таким виноватым себя чувствовал, так выглядело во всяком случае. Он сказал: «Все еще 100 раз может измениться! Все!» Только мне отчего-то кажется, что ничего не изменится. Будет только это.
Бедный Н. Т., не хотел бы я кого-нибудь вот так отвезти и в такую вот комнату.
И я ничего не стану писать и даже думать о его жене, — дело и не в ней, а во всех обстоятельствах, — такие тесные бывают дни.
Вход в мою комнату со двора — в этом есть что-то унизительное. Хотя через кухню я тоже могу перейти в общий коридор, спуститься и выйти через парадное, но там печальный колокольчик, и меня просят этого не делать. Видимо, чтобы не мыть пол. Топить самому — занятие, развлечение, и курить, если что, можно в коридоре. У меня есть деньги, надо что-то принести с рынка, если не поздно. Да поздно уж. Почти ночь. Какая быстрая темень. Сбежались тени и теснят. Есть табак. И немного керосину в лампе. Ну, что ж, начинаем обживаться!
Вспоминал, как мы ехали в Эстонию, стремились в Ревель, какие надежды мы связывали с Н. Т. и его семьей. Непросто мне писать эти слова, но что поделать, вот, пишу. Рассчитывали мы на Н. Т. «Едем не на голое место», — отец так говорил. Все время восхищался его образованием и положением. «Все-таки он там уже больше десяти лет». Когда приезжал к нам, выглядел он, как немец, богатый немец, а не какой-нибудь прохвост. У мамы глаза горели. «Может быть, все это только к лучшему». И вся наша надежда направлена была на него, Н. Т. Никого у матери больше не осталось — старший брат, он нам и в те трудные годы помогал, когда у папы с ателье крах вышел из-за его поездок и экспериментов (мамины долги Н. Т. оплатил, заложенные в ломбард фамильные ценности выкупил, и они долго разговаривали вдвоем). Теперь думаю, а стоило ли надеяться? Что было бы, если б все мы приехали? Вчетвером — как принял бы он нас? Если уж меня не потянули… Да и что тут скажешь: живет он замкнуто, про Русский клуб и Русский Дом ничего хорошего не говорит, только ворчит что-то, хоть за руку и здоровается с русскими, но старается держаться от них подальше. На бридж по субботам к нему только немцы и эстонцы ходят! Хозяйство в доме жена ведет, а она немка: экономия во всем. Меня ни с кем знакомить не пытается. Так, два-три человека. Одно разочарование вышло. Как моя мать была бы в нем разочарована! (Это не горечь обиды во мне говорит, а холодный трезвый ум.)
Только что в мою комнату ворвались дети. Они не ожидали, что я тут; наверное, думали, что комната пустует. Бросились обратно вон. Мальчик поскользнулся, даже упал на колено, с ноги сорвался ботинок. Убежали, мелькая гольфами, а ботинок остался. Я взял его, а он еще теплый. Драный-предраный, и маленький, как игрушечный, но грубый, тяжеленький, настоящий. Хорошо такой ботинок готовит мальчика к тому, что там грядет: войны, строем по грязюке, с винтовкой наперевес. Вперед! Не щадя живота своего!
Я вышел с этим ботинком на кухню. Никого, только глаз на меня сквозь щель дверную смотрит, и тот метнулся и побежал, чередуя глухие и звонкие: носок — ботинок, носок — ботинок. Мы с ботинком остались одни. Я закурил и налил себе вина. Я пью тут один. Мне не с кем пить. На кухне газовая лампа. В печи тоскливо пламя пережевывает чурку. Признаться, никого не хотел бы видеть. Хорошо бы кого-то, но — мне стыдно, сейчас тут можно в этом признаться: я такая размазня, я совершенно не был готов, ни к тому, что внутри комнаты, ни к тому, что внутри меня вздрогнуло; когда я в этой комнате оказался один на один с собой, такое выплеснулось — стыдно, ох, как стыдно! Ни тем более к тому, что снаружи. Двор, в кашу взбитая грязь со снегом. Телеги: одна запряженная — рябая лошадь, другая — с пустыми оглоблями: одна оглобля на пеньке, другая в грязи. Сараи, яблони под тяжелым снегом. Зеркало на меня смотрит в ожидании. На меня лучше и не смотреть, так я жалок. Чего ждать? Лучше одному это все. Я совсем не готов и к тому, что грядет. Вот мальчик без ботинка, может быть, готов, а я ни к чему не готов. Je ne sers a rien![5]
А потом пришел человек с тонкими усиками, был он до смешного торжественно одет, держался очень строго: прямая спина, напряженные брови. Говорил со мной по-немецки и с важностью; я с горем пополам отвечал. Пришел он, как оказалось, за ботинком. Ушел, так же чинно шагая и напевая что-то себе под нос. Я сильно покраснел; в целом, меня это явление развеселило: неужто так разоделся, чтобы прийти за ботинком? Я видел мальчугана мельком: он тоже весь обтрепанный. Скоро из него вырастет настоящий тертый калач, как и его отец. Будут торговать вместе. Чем они там торгуют? Материей, тканями, ниткой… А жена шьет, только машинку и слышно: ток-ток-ток, ток-ток-ток… Я в детстве любил. Не думать!
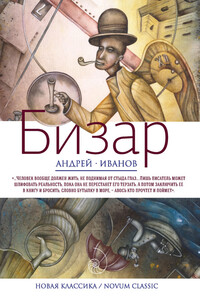
Эксцентричный – причудливый – странный. «Бизар» (англ). Новый роман Андрея Иванова – строчка лонг-листа «НацБеста» еще до выхода «в свет».Абсолютно русский роман совсем с иной (не русской) географией. «Бизар» – современный вариант горьковского «На дне», только с другой глубиной погружения. Погружения в реальность Европы, которой как бы нет. Герои романа – маргиналы и юродивые, совсем не святые поселенцы европейского лагеря для нелегалов. Люди, которых нет, ни с одной, ни с другой стороны границы. Заграничье для них везде.

Сборник «Копенгага» — это галерея портретов. Русский художник, который никак не может приступить к работе над своими картинами; музыкант-гомосексуалист играет в барах и пьет до невменяемости; старый священник, одержимый религиозным проектом; беженцы, хиппи, маргиналы… Каждый из них заперт в комнате своего отдельного одиночества. Невероятные проделки героев новелл можно сравнить с шалостями детей, которых бросили, толком не объяснив зачем дана жизнь; и чем абсурдней их поступки, тем явственней опустошительное отчаяние, которое толкает их на это.Как и роман «Путешествие Ханумана на Лолланд», сборник написан в жанре псевдоавтобиографии и связан с романом не только сквозными персонажами — Хануман, Непалино, Михаил Потапов, но и мотивом нелегального проживания, который в романе «Зола» обретает поэтико-метафизическое значение.«…вселенная создается ежесекундно, рождается здесь и сейчас, и никогда не умирает; бесконечность воссоздает себя волевым усилием, обращая мгновение бытия в вечность.

Герои плутовского романа Андрея Иванова, индус Хануман и русский эстонец Юдж, живут нелегально в Дании и мечтают поехать на Лолланд – датскую Ибицу, где свобода, девочки и трава. А пока ютятся в лагере для беженцев, втридорога продают продукты, найденные на помойке, взламывают телефонные коды и изображают русских мафиози… Но ловко обманывая других, они сами постоянно попадают впросак, и ясно, что путешествие на Лолланд никогда не закончится.Роман вошел в шортлист премии «РУССКИЙ БУКЕР».

Новая книга Андрея Иванова погружает читателя в послевоенный Париж, в мир русской эмиграции. Сопротивление и коллаборационисты, знаменитые философы и художники, разведка и убийства… Но перед нами не историческое повествование. Это роман, такой же, как «Роман с кокаином», «Дар» или «Улисс» (только русский), рассказывающий о неизбежности трагического выбора, любви, ненависти – о вопросах, которые волнуют во все времена.
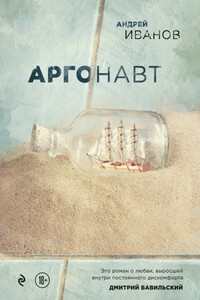
Синтез Джойса и Набокова по-русски – это роман Андрея Иванова «Аргонавт». Герои Иванова путешествуют по улицам Таллина, европейским рок-фестивалям и страницам соцсетей сложными прихотливыми путями, которые ведут то ли в никуда, то ли к свободе. По словам Андрея Иванова, его аргонавт – «это замкнутый в сферу человек, в котором отражается мир и его обитатели, витрувианский человек наших дней, если хотите, он никуда не плывет, он погружается и всплывает».

Андрей Иванов – русский прозаик, живущий в Таллине, лауреат премии «НОС», финалист премии «Русский Букер». Главная его тема – быт и бытие эмигрантов: как современных нелегалов, пытающихся закрепиться всеми правдами и неправдами в Скандинавии, так и вынужденных бежать от революции в 20–30-х годах в Эстонию («Харбинские мотыльки»).Новый роман «Исповедь лунатика», завершающий его «скандинавскую трилогию» («Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар»), – метафизическая одиссея тел и душ, чье добровольное сошествие в ад затянулось, а найти путь обратно все сложнее.Главный герой – Евгений, Юджин – сумел вырваться из лабиринта датских лагерей для беженцев, прошел через несколько тюрем, сбежал из психиатрической клиники – и теперь пытается освободиться от навязчивых мороков прошлого…
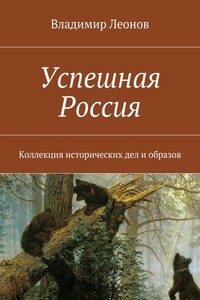
Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.
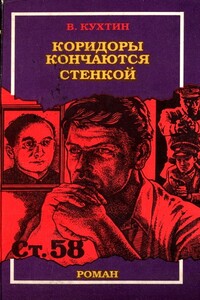
Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.