Ханеман - [53]
Всякий раз, вспоминая дом 17 по улице Гротгера, я слышу то красивое, мощное слово, которое после долгой тишины донеслось из-за белой двери Ханкиной комнаты. Мы уже были в бездне, на темном дне жизни (мы — это я и Ханка); когда Отец сводил ее вниз, мне, глядящему на ее плач, казалось, что все рушится, а теперь — будто поднялись прибитые дождем хлеба. Разобраться в этом я не мог.
А она уже на следующий день вышла из дома и как ни в чем не бывало отправилась в магазин Пускарчиков на углу улицы Дердовского, притом в такое время, когда там было полно народу. Женщины говорили с ней о пустяках домашних, соседских; ни одна бровью не повела — не показала, что все знает. Дома, наверно, от них много чего можно было услышать — но здесь, сейчас? Ханка купила дрожжи, дюжину яиц, сметану, пакетик сахарной пудры, ванилин и, вернувшись, сразу протерла тряпкой большую кухонную доску. Зазвенели противни, смазываемые кусочком масла, с шипеньем вспыхнул огонь в духовке, запахло мукой и растопленным маслом, один за другим плюхались в фаянсовую мисочку желтки, росла под быстрыми ударами вилки пена, а я сидел за столом с куском теплого хлеба в руке и смотрел во все глаза. Она еще не напевала, как раньше, еще привычным движением не отбрасывала назад волосы, но, что бы ни делала, в воздухе витало это дрожащее золотистое слово, которое впоследствии столько раз мне помогало. «Нетушки!» Неизвестно было, кому оно адресовано, но я чувствовал, что, наклоняясь или взмахивая рукой, Ханка раз за разом наносит кому-то (или чему-то) удары, словно бы здесь, в кухне, ее окружали зловещие призраки, с которыми необходимо было расквитаться. Это их она то и дело сильно пихала локтем, разминая на доске ком желтого теста, это их хлестала по роже, энергично растирая желтки с сахаром в глиняной макитре. Но кто были эти «они»? Мы все, наша улица Гротгера?
А потом даже Отцу пришлось отведать посыпанный сладкой крошкой дрожжевой пирог (хотя он предпочитал облитый глазурью рулет с маком, который Ханка пекла иногда по субботам), мы же с Мамой были приглашены к столу, на котором желтела горячая, с пылу с жару, яблочная бабка, хотя до Рождества было еще далеко, а такие бабки украшали стол только вечером в Сочельник. Хоть все мы и радовались этой перемене, Мама подозревала, что за глазурно-дрожжевой веселой легкостью припудренных мукою рук, осветивших кухню сверканием противней, все еще прячется что-то недоброе, готовое в любой момент снова выплеснуться наружу.
Но Ханка постепенно приходила в себя. По субботам, когда Отец с Мамой отправлялись к Фалькевичам на Цветочную, откуда возвращались не раньше полуночи, ее навещали соседки — пани Божена и пани Янина из бывшего дома Биренштайнов; тогда в комнату, где я засыпал, через дверь просачивался теплый шепоток пересудов обо всей улице Гротгера — дом за домом! друзья и просто знакомые! — а я ловил каждое слово, каждый смешок, будто блестящие монетки, которые кто-то бросал мне из темноты. Ханкин голос, все еще немного померкший, временами обретал прежнюю яркость, а смех дрожал почти как раньше — чистый, звонкий и чуточку вызывающий, похожий на смех сообразительного ребенка, который изо всех сил старается отдаться беспричинной радости, чтобы забить еще прячущийся в уголках губ соленый вкус слез. Я прижимался щекой к подушке, закрывал глаза и погружался в туманное облако то затихающих, то набирающих силу женских голосов, которые жадно, безжалостно завладевали всей улицей Гротгера, не пропуская никого — всем нужно было перемыть косточки, про каждого сочинить забавную историю, — и я радовался, что все идет на лад.
И тем не менее после того дня, когда пани В. не пустила меня в дом, отогнав, строго и торопливо, от дверей с номером 17, я больше не мог смотреть на Ханку прежними глазами. И даже если она привычным, так любимым мною движением взъерошивала мне волосы, всякий раз, когда она подносила руку к моим вихрам, у меня замирало сердце. Что изменилось? В ком — в ней или во мне? А может, глаза вопреки сердцу — ведь мне безумно хотелось, чтобы все было как раньше, — сами выискивали едва заметные перемены в том, как она встряхивала головой, как жестикулировала при разговоре? Тень на дне зрачков? Потускневший блеск глаз? Напряженный изгиб губ? Машинальное прикосновение к вискам? Сохранила ли она после всего этого смеющееся тело? После всего этого…
А Ханеман? У нас дома о нем не говорили, как не говорили и о том дне. Ханка, встречаясь с ним на дорожке или на лестнице, отвечала на приветствие словно бы так, как раньше, — так, да не так. Раньше ее немного смешил этот, пожалуй, чересчур серьезный мужчина со второго этажа, обучавший немецкому языку мальчишек с улиц Гротгера, Цветочной, Героев Вестерплатте, который неторопливо спускался в сад, чтобы срезать несколько ирисов под туями, а она, сдерживая смех, с небрежной, чуть вызывающей иронией, капельку громче, чем следовало бы, первая говорила: «Здравствуйте, пан Ханеман». Теперь же, проходя мимо него, она ускоряла шаг.
А по вечерам? По вечерам, когда родителей не было дома, Ханка иногда дирижировала в кухне пани Боженой и пани Яниной, и все трое, точно исполняя торжественный гимн, чеканили своими красивыми голосами вначале едва слышно: «Ха! Не! Ман! Ха! Не! Ман!» Потом быстрее: «Ха! Не! Ман!» А потом еще раз, еще быстрее, и еще раз, громче. И при этом смеялись до упаду. Пани Божена выходила на середину кухни и, засунув руки в карманы передника, изображала походку Ханемана. Ее пробковые каблуки постукивали по половицам — бум! бум! — точно барабан, подыгрывающий веселой пляске. Это было обидно, но так уморительно, что я, пряча голову под одеяло, давился от смеха.
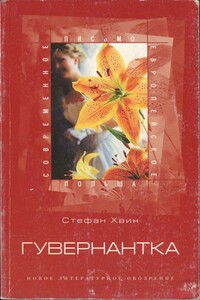
Стефан Хвин принадлежит к числу немногих безусловных авторитетов в польской литературе последних лет. Его стиль, воскрешающий традиции классического письма, — явление уникальное и почти дерзкое.Роман «Гувернантка» окружен аурой минувших времен. Неторопливое повествование, скрупулезно описанные предметы и реалии. И вечные вопросы, которые приобретают на этом фоне особую пронзительность. Образ прекрасной и таинственной Эстер, внезапно сраженной тяжелым недугом, заставляет задуматься о хрупкости человеческого бытия, о жизни и смерти, о феномене страдания, о божественном и демоническом…

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
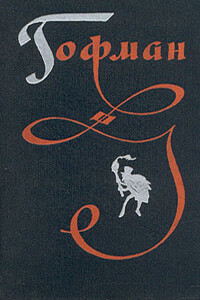
Крупнейший представитель немецкого романтизма XVIII - начала XIX века, Э.Т.А. Гофман внес значительный вклад в искусство. Композитор, дирижер, писатель, он прославился как автор произведений, в которых нашли яркое воплощение созданные им романтические образы, оказавшие влияние на творчество композиторов-романтиков, в частности Р. Шумана. Как известно, писатель страдал от тяжелого недуга, паралича обеих ног. Новелла "Угловое окно" глубоко автобиографична — в ней рассказывается о молодом человеке, также лишившемся возможности передвигаться и вынужденного наблюдать жизнь через это самое угловое окно...
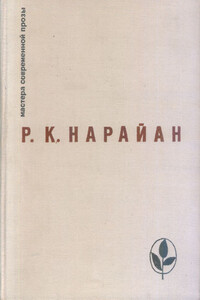
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.

«Ботус Окцитанус, или восьмиглазый скорпион» [«Bothus Occitanus eller den otteǿjede skorpion» (1953)] — это остросатирический роман о социальной несправедливости, лицемерии общественной морали, бюрократизме и коррумпированности государственной машины. И о среднестатистическом гражданине, который не умеет и не желает ни замечать все эти противоречия, ни критически мыслить, ни протестовать — до тех самых пор, пока ему самому не придется непосредственно столкнуться с произволом властей.

Короткая связь богатого английского наследника и русской эмигрантки, вынужденной сделаться «ночной бабочкой»…Это кажется банальным… но только на первый взгляд.Потому что молодой англичанин безмерно далек от жажды поразвлечься, а его случайная приятельница — от желания очистить его карманы.В сущности, оба они хотят лишь одного — понимания…Так начинается один из самых необычных романов Моэма — история страстной, трагической, всепрощающей любви, загадочного преступления, крушения иллюзий и бесконечного человеческого одиночества…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«По ком звонит колокол» — один из лучших романов Хемингуэя. Полная трагизма история молодого американца, приехавшего в Испанию, охваченную гражданской войной.Блистательная и печальная книга о войне и любви, истинном мужестве и самопожертвовании, нравственном долге и непреходящей ценности человеческой жизни.

«Грозовой Перевал» Эмили Бронте — не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история роковой страсти Хитклифа, приемного сына владельца поместья «Грозовой перевал», к дочери хозяина Кэтрин не поддается ходу времени. «Грозовым Перевалом» зачитывалось уже много поколений женщин — продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...