Гражданство и гражданское общество - [4]
На этом фоне четко просматриваются различия в конфигурации идеологического поля. В Британии в течение последней трети XIX в. получают широкое распространение социалистические, анархистские и «тред-юнионистские» идеи. В Германии к концу XIX – началу XX в. складывается причудливая смесь поощряемого высшей бюрократией этатизма и милитаризма, а также идущего со стороны средних классов (университетская профессура, чиновничество, журналисты, мелкие торговцы, гимназические учителя и т. д.) национализма. Важный элемент этой идеологии – недоверие к демократическим идеям, идущим снизу. Для немецкого «образованного общества» той поры working class democracy – англосаксонское изобретение, несовместимое с «немецким духом».
В британской политической традиции (и, соответственно, политической культуре) чрезвычайно высока ценность парламентаризма (централизованная власть оставила притязания на монополию еще в XVII в.[17]). В Германии О. Бисмарка парламент – скорее совещательный орган при правительстве, чем источник власти.
Другой особенностью британского способа ведения политики является то, что П. Андерсон назвал «градуализмом» (gradualism), – принцип постепенности перемен[18]. Это, опять-таки, резко отличает Британию от ее европейских соседей (в частности, от Франции, которая добивалась перемен чередой революций). Но, пожалуй, решающим отличием британской политической культуры от политической культуры континентальной Европы XIX – начала XX в. является роль компромисса в поиске приемлемого для конкурирующих социально-классовых групп решения. Государство, как мы уже заметили, воспринимается в Британии как арбитр, следящий за соблюдением социального контракта между различными общественными силами. В немецком же восприятии государство – самостоятельная сила[19].
Из перечисленных выше особенностей и проистекает специфически британское понимание феномена гражданства, выразителем которого стал Т. Маршалл. Проблематика гражданства в британском контексте – это, прежде всего, смягчение неравенства в доступе к ключевым социальным ресурсам (чтобы завершить наше сопоставление с Германией, отметим, что в немецком случае проблематика гражданства осмысляется по преимуществу в моральном ключе – ответственность, обязательства и т. д.).
Ради наглядности эти различия можно представить в виде таблицы 1.
Таблица 1. Условия формирования представлений о гражданстве в Англии и Германии (XIX в. – первая половина XX в.)
Как видим, то обстоятельство, что интересующий нас текст появился именно в Англии, далеко не случайно. Позволительно выразиться сильнее: подобное сочинение и не могло появиться нигде, кроме Англии. Даже в такой, на первый взгляд, близкой ей стране, как США.
Для Америки и, соответственно, для мыслителей, социализировавшихся в Соединенных Штатах, в высшей степени не характерны интуиции, которые англичанину Т. Маршаллу кажутся естественными. Проблематика социально-классового разделения общества никогда не была центральной для американских авторов. Тому есть несколько причин. Во-первых, в Америке, в отличие от Старого Света, не существовало исторически обусловленной сословной стратификации. Американцам не нужно было ни бороться с сословной иерархией, как французам (пролившим в ходе этой борьбы реки крови), ни прилагать усилия по приспособлению традиционной иерархии (корона, Палата лордов, государственный статус Англиканской церкви) к новым условиям, как англичанам. Во-вторых, чрезвычайно распространенный миф об Америке как стране равных возможностей дает толчок развитию отчетливо индивидуалистической психологии. Ее суть состоит в непоколебимой вере в ценность (и результативность!) индивидуального усилия. Ваш успех или неуспех зависит исключительно от вас самих – вашей энергии, ума, мотивированности, креативности. Американский индивидуализм – не самая благодатная почва для роста социалистических и прочих коллективистских идей. Социализм в Америке лишен сколько-нибудь массовой поддержки. Американские рабочие традиционно невосприимчивы к лозунгам левых радикалов.
Но этому факту есть и другое объяснение, выводящее нас из сферы спекуляций о национальном менталитете и политической культуре в сферу диспозиций классов на политическом поле. Заметим, что, говоря об американских рабочих, мы представляем их себе как белых мужчин. И это, кстати, верно, поскольку небелые трудящиеся и женщины были напрочь исключены из игры. Белые рабочие в Америке получили политические права уже к 1840 г., т. е. на целых полвека раньше, чем это случилось в самых передовых странах Западной Европы. Важно понимать, что это стало возможным благодаря систематическому исключению из прав гражданства широких слоев населения (женщины, чернокожие и «цветные», некоторые категории иммигрантов). И если женщины в США получили политические права в 20-е годы XX в., а чернокожие – в середине 60-х, то эксплуатация трудовых иммигрантов первого поколения до сих пор остается одним из столпов американского благополучия.
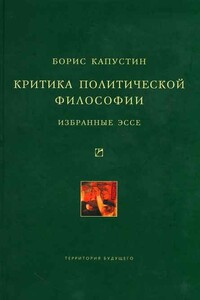
В книге собраны статьи по актуальным вопросам политической теории, которые находятся в центре дискуссий отечественных и зарубежных философов и обществоведов. Автор книги предпринимает попытку переосмысления таких категорий политической философии, как гражданское общество, цивилизация, политическое насилие, революция, национализм. В историко-философских статьях сборника исследуются генезис и пути развития основных идейных течений современности, прежде всего – либерализма. Особое место занимает цикл эссе, посвященных теоретическим проблемам морали и моральному измерению политической жизни.Книга имеет полемический характер и предназначена всем, кто стремится понять политику как нечто более возвышенное и трагическое, чем пиар, политтехнологии и, по выражению Гарольда Лассвелла, определение того, «кто получит что, когда и как».
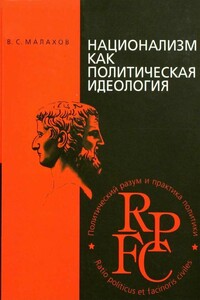
Книга посвящена одному из самых противоречивых политико-идеологических явлений современности — национализму. Не считая возможным сводить национализм к ксенофобии, автор анализирует данный феномен в контексте таких проблем политической теории как суверенитет, лояльность, легитимность и идентичность.Национализм рассматривается в сопряжении с его противниками и союзниками: либерализмом, социализмом и консерватизмом. В поле исследования находятся непростые отношения национализма с расизмом и фашизмом, равно как и его роль в антиимпериалистических и антиколониальных движениях.Специальный раздел отведен критике существующих теоретических подходов к изучению национализма.
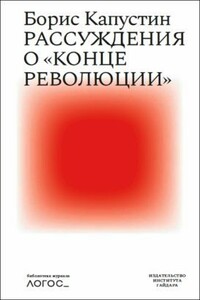
Возможна ли революция в современном мире как нечто большее, чем те «театральные» события, которые СМИ – в отсутствие «большой политики» – приучили нас считать «революциями»? Сегодня не только правые, но и многие левые теоретики дают отрицательный ответ на этот вопрос. Эта книга посвящена анализу «тезиса о конце революции». Критика этого тезиса и обосновывающих его аргументов не преследует цель доказать обратное, то есть возможность, не говоря уже о необходимости, революции. Наша цель – открыть путь той теории революции, которая освобождает последнюю от понятия прогресса и вместе с тем показывает ее как парадигмально современное явление, воздавая должное контингентному, событийному и освободительному характеру революции.
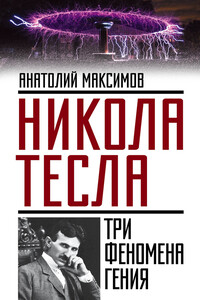
В последние годы своей жизни Никола Тесла печально и прозорливо говорил: «Сколько людей называли меня фантазером… Нас рассудит время!» В 1880-х годах позапрошлого века его идею переменного тока специалисты назвали бредом, а ныне весь мир пользуется устройствами, работающими благодаря этому открытию. Многие его гениальные проекты опередили время настолько, что и спустя столетие не смогли быть воспроизведены без чертежей и записей, которые ученый сознательно уничтожил, отказавшись от идеи сверхмощного оружия как сдерживающего фактора в развязывании мировой бойни.
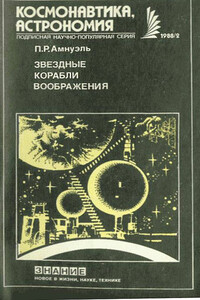
Брошюра подписной научно-популярной серии "Новое в жизни, науке, технике" библиотечки "Космонавтика, астрономия" издательства "Знание", № 2 1988 г.Автор брошюры, ученый и известный писатель-фантаст, обсуждает роль научной фантастики в прогнозировании в области космонавтики и астрономия и сопоставляет некоторые приемы, используемые писателями-фантастами, с методами научно-технического прогнозирования.
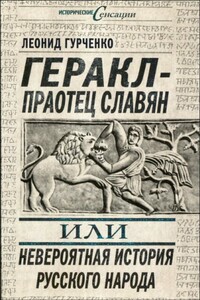
Существует легенда о происхождении скифов от связи Геракла с полуженщиной-полуехидной, приключившейся на берегах Днепра-Борисфена. Об этом писал еще отец истории Геродот. Упоминал об этом мифе и Лев Гумилев. Однако особенностью данной книги является углубленное изучение всех аспектов возможных причин возникновения этого мифа. В рамках своего труда автор проводит сенсационные параллели между Гераклом и героем древнерусских былин Ильей Муромцем, между библейским Эдемом и садом Гесперид, находит изображение Геракла на Збручском идоле и делает вывод, что Геродотовы будины, гелоны, навры — праславяне, поклонявшиеся Гераклу как богу.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья 1988–1989 гг. о ленинградской ветви фантастической «новой волны» — о писателях семинара Б. Стругацкого.Имеет историческое значение.

Его имя мало кто знает, хотя весьма популярны и прославлены имена Винера и Берталанфи, развивавших его идеи.
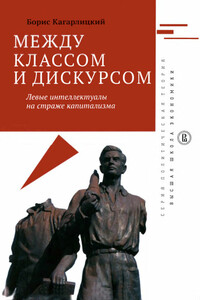
Политологическое исследование Бориса Кагарлицкого посвящено кризису международного левого движения, непосредственно связанному с кризисом капитализма. Вопреки распространенному мнению, трудности, которые испытывает капиталистическая система и господствующая неолиберальная идеология, не только не открывают новых возможностей для левых, но, напротив, демонстрируют их слабость и политическую несостоятельность, поскольку сами левые давно уже стали частью данной системы, а доминирующие среди них идеи представляют лишь радикальную версию той же буржуазной идеологии, заменив борьбу за классовые интересы защитой всевозможных «меньшинств». Кризис левого движения распространяется повсеместно, охватывая такие регионы, как Латинская Америка, Западная Европа, Россия и Украина.
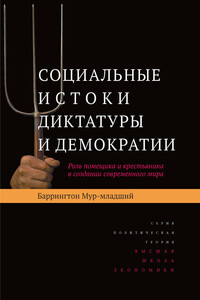
В классической работе выдающегося американского исторического социолога Баррингтона Мура-младшего (1913–2005) предлагается объяснение того, почему Британия, США и Франция стали богатыми и свободными странами, а Германия, Россия и Япония, несмотря на все модернизационные усилия, пришли к тоталитарным диктатурам правого или левого толка. Проведенный автором сравнительно-исторический анализ трех путей от аграрных обществ к современным индустриальным – буржуазная революция, «революция сверху» и крестьянская революция – показывает, что ключевую роль в этом процессе сыграли как экономические силы, так и особенности и динамика социальной структуры. Книга адресована историкам, социологам, политологам, а также всем интересующимся проблемами политической, экономической и социальной модернизации.

Роджер Скрутон, один из главных критиков левых идей, обращается к творчеству тех, кто внес наибольший вклад в развитие этого направления мысли. В доступной форме он разбирает теории Эрика Хобсбаума и Эдварда Палмера Томпсона, Джона Кеннета Гэлбрейта и Рональда Дворкина, Жана-Поля Сартра и Мишеля Фуко, Дьёрдя Лукача и Юргена Хабермаса, Луи Альтюссера, Жака Лакана и Жиля Делёза, Антонио Грамши, Перри Андерсона и Эдварда Саида, Алена Бадью и Славоя Жижека. Предметом анализа выступает движение новых левых не только на современном этапе, но и в процессе формирования с конца 1950-х годов.
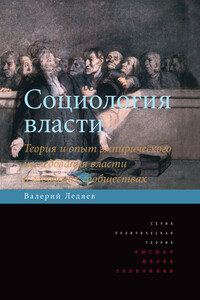
В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине XX в. и ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах; эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.