Город - [10]
Вставало утро, освещая бледным светом приют моей прихотливой лени, постель, ковер, резной письменный стол, украшенный бронзой и всем тем, что для писания книг совершенно ненужно, пишущие машинки Эрика, Оптима, Колибри, в ту пору у меня водились деньги, золотые перья, Паркер, в дубовом стаканчике, отточенные карандаши в бронзовом, стопка финской бумаги верже, все приготовлено было к письму, всем думалось, что я примусь писать вот-вот, и мне кажется до сих пор, что в ту осень, и прозрачную, и хмурую, я готов был присесть к столу и записать удивительную книгу, что уже зрела и завершалась во мне, я записал бы ее, взволнованный тонкой влюбленностью, записал бы единым духом, в тринадцать дней, я непременно бы принялся за нее синим, солнечным, ледяным утром 22 октября, наутро после премьеры: если б не Мальчик. Вошел гадкий Мальчик; и разбил мою жизнь.
Лютая, смертная скука овладевала мной, когда я даже мельком взглядывал на весь этот парад машинок и золотых перьев, и, вернувшись домой, я начинал томиться одиночеством, письменный стол наводил скуку, граничащую с отвращением, бронза, машинки Колибри, Консул, Эрика, электрическая Оптима, впоследствии я их распродавал потихоньку и тем жил, сочинения и собрания сочинений, прекраснейшие словари ушли тихо на черный рынок, и я был благодарен лихим временам достатка, резной письменный стол, чернильница с бронзовым орлом, письма, на которые я из лени не отвечал, поздравления, глянцевые пригласительные билеты… и неудержимо тянуло меня к телефону, звонить, всем подряд, звонить девочкам, веселить, забавлять их, и нравиться, и покорять…
И покорять.
Глуп был, батюшка. Глуп! Мне было в ту пору…
— Ты где? — …моей маленькой злюки не было рядом со мной. Простывший давно ее край постели, сумрачный свет разбудили меня. Шторы, висевшие тяжело, как занавес в театре, были раздвинуты. Завернувшись в малиновый, темный плед, подняв озябшие плечики, моя девочка молча, нахмурившись, стояла у серого утреннего окна. — …ты что?
— Тс-сс, — осторожно проговорила она. — Слышишь: трубы трубят… и звенят. — Еще не проснувшись отчетливо, я добросовестно прислушался… зябкое серое утро начала мая; час удручающе безжизненной тишины; и за Фонтанкой — черные, еще не распустившие листья, деревья Летнего сада.
— …Костры догорают. Майский робкий рассвет опускается в черный лес. Костры тлеют. И вот, издали: первый протяжный звон, как солнца несмелый, холодный луч. И другая труба, уверенней. Трубы звенят, поднимают уставшую, иззябшую, победившую гвардию.
— Какие костры?.. — заворчал недовольно я; и проснулся. Моя девочка, маленькая прелестница, стояла у раздвинутых штор, завернувшись небрежно в малиновый, почти черный в утреннем освещении, плед; плед был слишком велик для нее; длинный его конец, в черных складках, лежал на паркете, как шлейф.
Величественно выгнув спинку, с обнаженными плечиками, померещилась мне: в вечернем бархатном платье, из роли; чего не почудится в угрюмом весеннем рассвете, Брюс-колдун-чернокнижник, жутковато, загадочно прозвучало от штор, в осторожном ее голосе звучало удовольствие; и я узнал тот ее голос, каким она говорила, начиная выдумывать и мечтать: — …колдун-чернокнижник-внук-королей-шотландских с православным-государем-антихристом силой русско-калмыцкого-войска-под-византийским-ликом-Христа избил в финской земле лютеран-нечестивцев-шведов, четыре у Брюса пехотных, на прусский манер, гвардейских полка, худой кавалерийский, и тьма конницы, злейшей в Европе: калмыки, башкирцы, татары, запорожские казаки, ночь легла после битвы, утреет, костры догорают, туман, мокро и холодно, возле темных кустов кони из речки пьют, и речка еще без имени, звучит быстро татарская речь, и с другого берега: Га?.. жили люди, лютой завистью завидно, великолепные, крепкие, и о дне грядущем не задумывались ни на грош; и уже гукает, гукает с дальнего берега Невы, за полверсты серой воды: сваи на острову бьют, сотен десять татар каторжных, сотен семь пленных каторжных шведов; прислушаться: музыка на том берегу, пушечная пальба; видишь: над хмурой водою хоругви горят золотом, и горстка людей: сняв шляпы, поют; день святых первоапостолов Петра и Павла, закладка Крепости, государевы имянины, молебен, водосвятие с пальбою из пушек, пьянство всю светлую ночь, факелы, черный пушечный дым на ветру; мертвое пьянство, потому как попойка государственного значения… несчастный царевич. Государь ускакал, кинул все на него, и Нева уже в августе явила свой гнев двумя черными наводнениями, и первые жертвы, мученики Города, не приняв успокоения, вынесены из худых могил. К зиме выкопали землянки, и начали жить, на Руси это просто; каторжные, пленные, гвардия, запорожцы, калмыки, стрельцы, высланные из Москвы за бунт… бедный царевич. Гибель, гибель в антихристовом Городе, гибель в очи глядит, все пророчит царевичу гибель, и Городу запустение, быть зловещему Городу пусту; виновен во всем Брюс-колдун-чернокнижник! и гвардейские трубы на закате поют… красиво; есть в военной государевой службе такая тоска и такая, последняя, безнадежность, что становится служба

Настоящее издание возвращает читателю пропущенный шедевр русской прозы XX века. Написанный в 1970–1980-е, изданный в начале 1990-х, роман «Мальчик» остался почти незамеченным в потоке возвращенной литературы тех лет. Через без малого тридцать лет он сам становится возвращенной литературой, чтобы занять принадлежащее ему по праву место среди лучших романов, написанных по-русски в прошлом столетии. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Альманах "Молодой Ленинград" - сборник прозы молодых ленинградских писателей. В произведениях, включенных в сборник отражен широкий диапазон нравственных, социальных и экономических проблем современной, на момент издания, жизни. В сборнике так же представлены произведения и более зрелых авторов, чьи произведения до этого момента по тем или иным причинам не печатались.

"Секреты Балтийского подплава" - произведение необычного жанра. Автор, опираясь на устные предания ветеранов Балтики и на сведения, которые просочились в подцензурной советской литературе, приподнимает завесу "совершенной секретности" над некоторыми событиями Великой Отечественной войны на Балтийском море.
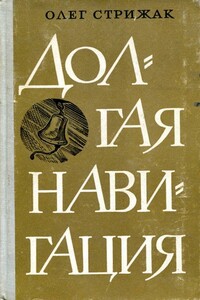
Книга О. В. Стрижака «Долгая навигация» рассказывает о буднях современного Военно-Морского Флота, о жизни и службе матросов и старшин, экипажа небольшого военного корабля.

Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, изданные смелыми издателями, вызывают интерес. А кто-то даже перечитывает их. Четыре книги – «Песня длиной в жизнь», «Хлеб-с-солью-и-пылью», «В городе Белой Вороны» и «Бочка счастья» были награждены вашим вниманием. И мне говорят: «Пиши. Пиши еще».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.