Горькие лимоны - [2]
Подходящий пункт отправления для путешественника, чей путь лежит к восточному Леванту…
Но, господи, до чего же все-таки холодно. На сером, вымощенном плитами причале я заметил кофейную стойку, где предлагали горячее молоко и круассаны. Располагалась она как раз напротив трапа, так что отстать от корабля можно было не опасаться. Маленький смуглый человечек с птичьими глазами без единого слова обслужил меня, зевнув мне прямо в лицо, так что из чистого чувства симпатии пришлось зевнуть в ответ. Я отдал ему свои последние лиры.
Стульев не было, но я уютно устроился на перевернутом вверх дном бочонке и, положив разломанный рогалик в горячее молоко, погрузился в дремотное созерцание Венеции с этой непривычной точки зрения, с другого края внешней гавани.
Вздохнул буксир и плеснул на ближайшее облако молочно-белой струей пара. Корабельный стюард тоже купил себе стакан молока и присоединился ко мне; приятный человек, круглый и гладкий, с роскошными ямочками в уголках улыбки — будто дорогие запонки на свежевыстиранной сорочке.
— Прекрасно, — кивнул он, оглядывая венецианский пейзаж, — прекрасно.
Впрочем, признание это прозвучало слегка натужно, поскольку сам стюард был из Болоньи, и открытое восхищение чужим городом казалось ему предательством. Он самозабвенно затянулся трубкой, набитой какой-то пахучей смесью.
— На Кипр едете? — спросил он в конце концов, вежливо, но с легким оттенком сострадания.
— Да. На Кипр.
— Работать?
— Работать.
Я счел нескромным объяснять, что я намереваюсь обосноваться на острове, купить, если получится, дом… После пяти лет, проведенных в Сербии, мне уже начало казаться, что само по себе желание поселиться где-нибудь на Средиземном море есть симптом опасного помрачения рассудка; да и в самом деле, вся эта затея вызывала ощущение нереальности. И я был рад лишний раз дотронуться до дерева.
— Так себе местечко, — сказал он.
— Да, судя по всему.
— Сухо и воды совсем нет. Народ пьет, не зная меры.
Вот это уже звучало обнадеживающе. Сколько я себя помнил, отсутствие воды всегда казалось мне лишним поводом возместить недостаток жидкости вином.
— А как тамошнее вино? — спросил я.
— Тяжелое и сладкое.
Это уже хуже. В том, что касается вина, на болонца всегда можно положиться. Впрочем, бог с ним. (Я куплю себе маленький крестьянский домик и пущу на острове корни, на ближайшие четыре-пять лет.) Самый что ни на есть сухой и безводный остров покажется раем после бездушных и пыльных сербских равнин.
— А почему не в Афины? — осторожно спросил он, эхом откликнувшись на мою же собственную мысль.
— Денег маловато.
— А! Так значит, вы на Кипр надолго?
Все мои тайны были шиты белыми нитками. Манера его тут же переменилась, а вместе с ней начала меняться и картина Кипра, поскольку вежливость не позволяет итальянцу ставить под вопрос планы собеседника на будущее или хоть как-то принижать родную страну. Кипр должен был стать моей приемной родиной, и теперь стюард чувствовал себя обязанным взглянуть на него моими глазами. И сразу оказалось, что остров этот плодородный, на нем полным-полно языческих богинь и минеральных источников; древних замков и монастырей; фруктов, и хлебов, и тучных пастбищ; священников, и цыган, и разбойников… Он мигом превратил Кипр в глянцевую открытку, одобрительно кивая мне и сияя улыбкой, словно истый сицилиец.
— А как насчет девушек? — перебил я его.
И тут он запнулся; и вежливость долго боролась в нем с мужской гордыней. Ему волей-неволей пришлось открыть правду, в противном случае, чуть позже, так сказать, на месте, я мог бы обвинить его — болонца, между прочим! — в том, что он ничего не понимает в женской красоте.
— Уродки, все как одна, — через силу выдавил он. — Чистой воды уродки.
Больше добавить было нечего. Мы еще немного посидели молча, до тех пор пока возвышающийся над нами пароход испустил громкое ффффф, и вниз по трубке корабельной сирены поползли капли парового конденсата.
Пришло время прощаться с Европой.
Когда мы проходили внешний мол, взревели буксиры. Дымка осталась позади, зацепившись за холмы по ту сторону от Венеции. Следуя за выстроившейся тут же цепочкой ассоциаций, разве мог я не вспомнить о Екатерине Корнаро[3], последней королеве Кипра, которая за проведенные в изгнании двадцать лет наверняка должна была забыть о беспокойных годах царствования, ведя куда более приятную жизнь в зеленых беседках Азоло, в окружении преданного ей двора? Она умерла в 1510-м, в возрасте пятидесяти шести лет, и ее тело перевезли из фамильного дворца на другую сторону Канале Гранде. («Ночь выдалась бурная, с сильным дождем и ветром. На крышке гроба покоилась корона Кипра — хотя бы для видимости Венеция продолжала настаивать на том, что ее дочь была королевой; однако тело было облачено в одеяние святого Франциска: грубая коричневая ряса, капюшон, веревка вместо пояса».) В раннем утреннем великолепии этого неба и этого моря трудно себе представить, как плясало на ветру пламя факелов, как вспыхивали блики молний на покрытых мелкой рябью волнах, как ветер рвал полы плащей и подолы платьев, когда длинные лодки тронулись в путь, унося роскошно одетую городскую знать. Кто сейчас помнит о Екатерине? Тициан и Беллини писали ее портреты; Бембо создал целую философию любви, чтобы развлечь ее придворных. На единственном портрете, который мне довелось увидеть, взгляд ее тяжел и серьезен, но глаза прекрасны и живут неистребимой собственной жизнью; глаза женщины, которой часто льстили, которой довелось подолгу путешествовать и много раз любить. Глаза человека, который был недостаточно ограниченным и своекорыстным, и оттого, вступив в сферу большой политики, проигрался в дым. Но это — глаза истинной женщины, не призрака, не фантома.

Четыре части романа-тетралогии «Александрийский квартет» не зря носят имена своих главных героев. Читатель может посмотреть на одни и те же события – жизнь египетской Александрии до и во время Второй мировой войны – глазами совершенно разных людей. Закат колониализма, антибританский бунт, политическая и частная жизнь – явления и люди становятся намного понятнее, когда можно увидеть их под разными углами. Сам автор называл тетралогию экспериментом по исследованию континуума и субъектно-объектных связей на материале современной любви. Текст данного издания был переработан переводчиком В.
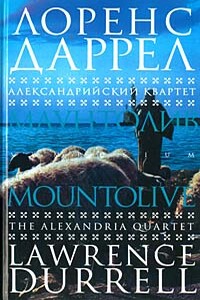
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла, Лоренс Даррелл (1912—1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Третий роман квартета, «Маунтолив» (1958) — это новый и вновь совершенно непредсказуемый взгляд на взаимоотношения уже знакомых персонажей.
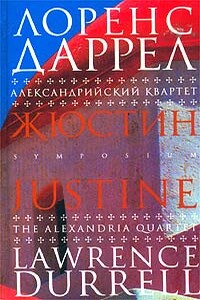
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1913-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Время расставило все на свои места.Первый роман квартета, «Жюстин» (1957), — это первый и необратимый шаг в лабиринт человеческих чувств, логики и неписаных, но неукоснительных законов бытия.
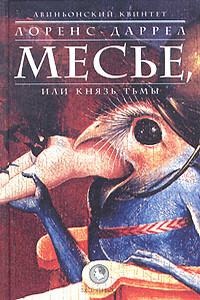
«Месье, или Князь Тьмы» (1974) — первая книга цикла «Авиньонский квинтет» признанного классика английской литературы ХХ-го столетия Лоренса Даррела, чье творчество в последние годы нашло своих многочисленных почитателей в России. Используя в своем ярком, живописном повествовании отдельные приемы и мотивы знаменитого «Александрийского квартета», автор, на это раз, переносит действие на юг Франции, в египетскую пустыню, в Венецию. Таинственное событие — неожиданная гибель одного из героев и все то, что ей предшествовало, истолковывается по-разному другими персонажами романа: врачом, историком, писателем.Так же как и прославленный «Александрийский квартет» это, по определению автора, «исследование любви в современном мире».Путешествуя со своими героями в пространстве и времени, Даррел создал поэтичные, увлекательные произведения.Сложные, переплетающиеся сюжеты завораживают читателя, заставляя его с волнением следить за развитием действия.
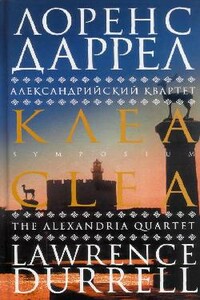
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в нем литературного шарлатана. Четвертый роман квартета, «Клеа»(1960) — это развитие и завершение истории, изложенной в разных ракурсах в «Жюстин», «Бальтазаре» и «Маунтоливе».
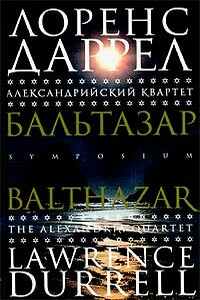
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в ней литературного шарлатана. Второй роман квартета — «Бальтазар» (1958) только подлил масла в огонь, разрушив у читателей и критиков впечатление, что они что-то поняли в «Жюстин».

Павел Кренев (Поздеев Павел Григорьевич) – писатель интересный и самобытный. Палитра творческих интересов его необычайно разнообразна и разнокрасочна. Это и глубокое проникновение в людские характеры и судьбы, и отображение неповторимых красок русской природы, великолепия и очарования морских пейзажей. Своими историческими зарисовками он увлекает нас в мир прошлых интереснейших событий. Написанные им детективы, наполненные ошеломляющими деталями, яркими сюжетными поворотами, свидетельствуют о прекрасном знании автором излагаемого материала.Он умеет писать о зверье и птицах как о самодостаточных участниках Божественного мирозданья.

Роман «Поцелуй кувалды» – пятая по счёту книга Владимира Антонова. В ней рассказывается о талантливом человеке, наделавшем много глупостей в начале жизненного пути. Вслед за этим последовала роковая ошибка, которая в дальнейшем привела героя к серьёзным последствиям. На фоне происходящего разворачивается его личная жизненная драма. Все персонажи вымышлены. Любое совпадение случайно.

"Перед вами азиатский мегаполис. Почти шестьсот небоскребов, почти двадцать миллионов мирных жителей. Но в нем встречаются бандиты. И полицейские. Встречаются в мегаполисе и гангстерские кланы. А однажды... Однажды встретились наследница клана "Трилистник" и мелкий мошенник в спортивном костюме... А кому интересно посмотреть на прототипов героев, заходите в наш соавторский ВК-паблик https://vk.com/irien_and_sidha по тегу #Шесть_дней_Ямады_Рин.

Кристоф Симон (р. 1972) – известный швейцарский джазмен и писатель.«Франц, или Почему антилопы бегают стадами» (Franz oder Warum Antilopen nebeneinander laufen, 2001) – первый роман Симона – сразу же снискал у читателей успех, разошелся тиражом более 10000 экземпляров и был номинирован на премию Ингеборг Бахман. Критики называют Кристофа Симона швейцарским Сэлинджером.«Франц, или Почему антилопы бегают стадами» – это роман о взрослении, о поисках своего места в жизни. Главный герой, Франц Обрист, как будто прячется за свое детство, в свою гимназию-«кубик».

Гражданские междуусобицы не отошли в историю, как чума или черная оспа. Вирус войны оказался сильнее времени, а сами войны за последние тридцать лет не сделались ни праведней, ни благородней. Нет ничего проще, чем развязать войну. Она просто приходит под окна, говорит: «Иди сюда, парень!», – и парень отправляется воевать. Рассказы Т. Тадтаева – своего рода новый эпос о войне – именно об этом. Автор родился в 1966 году в Цхинвале. Участник грузино-осетинских войн 1991–1992 годов и других военных конфликтов в Закавказье.

Наши жизни выписаны рукой других людей. Некоторым посвящены целые главы. А чье-то присутствие можно вместить всего в пару строк – случайный попутчик, почтальон, продавец из булочной, – но и они порой способны повилять на нашу судьбу. Хелен и Сара встретились на мосту, когда одна из них была полна желания жить, другая же – мечтала забыться. Их разделяли десяток лет, разное воспитание и характеры, но они все же стали подругами, невидимыми друзьями по переписке, бережно хранящими сокровенные тайны друг друга. Но что для Хелен и Сары на самом деле значит искренность? И до какой степени можно довериться чужому человеку, не боясь, что однажды тебя настигнет горькое разочарование?