Горесть неизреченная [сборник] - [22]
Я тоже кричал охране, грозил жалобами прокурору. Но всё было зря. Только когда прибыли воронки из города, нас стали высаживать. Меня вывели одним из первых. Было уже сумеречно. Как особо опасного, меня отвели в сторону и прикрепили ко мне отдельного солдата. Этот молодой парень в очках, лет девятнадцати, крепко держал меня под руку. Он был типичный студент-первокурсник, высокий, здоровый, как большинство в этом новом поколении. Очки и добродушное полное полудетское лицо придавали ему сходство с Пьером Безуховым. А держал меня он крепко, и автомат за его спиной сработал бы добротно, стоило мне чего-нибудь там затеять. Этот новейший «Пьер Безухов» живо заработал бы себе отпуск, уложив меня (их так поощряют за стрельбу по зэкам, пытающимся бежать). Так и держал меня этот солдат, пока не пришло моё время лезть в воронок. Задвинутый в стакан, я в щёлку стал наблюдать город. Он показался широким, открытым, шумным. Я впервые после лагеря видел улицы, проспекты — вернее, обрывки их, мелькающие сквозь жалюзи. Рядом в стакане кому-то было дурно, он просил солдата пересадить его, но тот — белобрысый, мужланистый — равнодушно бормотнул ему: «А мне по…ть» — и переставил автомат к другому колену. Вскоре путь кончился. Нас завели в тюрьму. Снова кинули в отстойник. Снова параша и голые стены — ходи, стой или сиди на корточках, как любят сидеть бытовики. Прислонил я рюкзак к стене, сел на него, глянул вокруг. Вдруг заскрежетали знакомым скрежетом двери — подсаживают кого-то, видно. Это в жизни зэка волнующий миг — кого же Бог пошлёт? И страшно и любопытно. Дверь отошла, и один за другим в отстойник повалили полосатики — у меня сердце захолонуло. Кавказские бешеные глаза, монгольские косые скулы, русские приземистые плечи — всего человек восемь. Но было всё, как в доброй сказке. Один из полосатиков первым делом рванулся ко мне — как тебя зовут, кто ты? Я сказал. «Очень хорошо, Толик, ничего не бойся, мы политиков уважаем, я — Магомет-чечен, это все наши ребята хорошие». «Что-нибудь везёшь с собой?» Я показал. «Нет, Толик, не возьмём, у тебя самого мало». «Возьмите, ребята, я от души, знаю, каково вам, слышал о ваших зонах». Мне вправду стало светлее вдруг, и потянуло к этим людям. И монгольские скулы (то был бурят) не страшили, и кавказские глаза согревали, а не бросали в дрожь. А ведь полосатикам есть от чего ожесточиться. Их режим — особый. Как во времена инквизиции, они обряжены в шутовскую полосатую форму, только бубенцов не хватает. Жизнь у них тяжелее, чем у всех нас. На строгом режиме одна посылка и две бандероли в год, одно личное свидание и два общих, а у них одна бандероль и одно общее свидание — и всё. Живут они в камерах, на работу их выводят в другие камеры — каторга из каторг. Зато и держат они себя, как в лагерях говорят — «в наглую», начальство кроют в бога-мать. Оно с ними старается не заводиться, к добру не приводит… Между тем, набрав бумаги, мои сотоварищи стали её жечь в раковине туалета, один держал над огнём кружку с чаем. Бумага чернела, дымилась, дым ходил по камере, ел глаза. Видно, он пополз в коридор, дверь отворилась, в отстойник ворвались менты. Кружка куда-то исчезла с моих глаз, полосатики сгрудились в кучу и на крик надзирателей отвечали пущим криком: «Ничего не знаем, иди, начальник, по-хорошему, всё будет тихо, карцер твой на фую видели». И начальники, хоть и погрозив, но сильно сбавив тон, ушли. Появилась на свет кружка, один из полосатиков голой рукой держал её кипящую у себя за спиной. Я поразился силе его духа. Чай пошёл по кругу, я отказался, отговорившись тем, что вообще не пью. Мне было жаль отнимать у ребят глоток драгоценной для них жидкости. Это их ещё больше ко мне расположило. Они смотрели на меня во все глаза, жадно расспрашивали о воле, о делах международных, обо всём, словно вчера ещё я ходил по Ленинграду, а прошло ведь уже 4 года моего лагерного жития. Они же волокли срока большие — кто 10, кто 15, кто 20 лет. Почти все сидели за убийство, один, армянин, имел семь убийств на счету и был помилован по личному слову Брежнева, до которого добралась его старенькая, жившая в горном ауле мать. Когда пришла пора расстаться с полосатиками, мне и впрямь стало грустно. Меня повели в камеру.
Она была в подвале, но не таком глубоком, как в Челябинске. Камера оказалась длинной, как коридор, на удивление большой. Стояло три койки, но я-то был один! И снова я обрадовался этому. За окном темнел вечер. Стекло было разбито, и поддувало холодным ветром. Но я холода не боялся, я ходил по камере и радовался, какая она большая. За дверью громыхали порой сапоги надзирателя, но я теперь почти не обращал внимания на глазок. Я ходил и думал, что эта камера велика, как прогулочный дворик, а так как из окна дует, то я словно бы на прогулке. Кстати, в Челябинске прогулочный дворик оказался самым большим из всех виденных мной. Туда даже воробьи залетали и глазели на меня, чирикая, очевидно, в мой адрес. Здесь, правда, воробьев не было. Дуло из окна всё сильнее, и темнело. Наступало похолодание, да и Сибирь дышала, видать, своим студёным нутром. Я стал слегка мерзнуть. Пора было уже спать. Делать нечего, я прилёг на утлый матрас. Железо койки звякнуло подо мной. Лампа вверху светилась тупо, бледно, тоскливо. Укрывшись хиленьким одеялом, я попытался уснуть. Многолетний зэковский навык сработал — это мне удалось. Зэку ведь уснуть — первая радость, поесть — вторая. А всё остальное — срок, который у каждого свой и который каждого давит. Проснулся я от собственной дрожи и зубовного лязганья. Меня трясло всего с головы до ног. Я ничего не мог с собой поделать. Я вскочил с постели, стал приседать, бегать, ходить. Предстояла бессонная ночь в ходьбе, в беготне, в дрожи и зуб на зуб непопадании. Пробегав полчаса или час (а была глубокая ночь уже), я стал барабанить и тулумбасить в дверь. Ногами, кулаками, нажимать на звонок, кричать благим матом. Наконец замаячили шаги и, бетонней всё стуча, приблизились. Кормушка открылась. «Чего блажишь? В карцер захотел?» «Здесь в камере мороз, температура ниже нуля! Это издевательство! Переведите меня в другую немедленно!» Кормушка закрылась. Вскоре, приложив ухо к двери, я услышал голос этого надзирателя. Он по телефону толковал начальству: «В четвёртой камере замерзает. Да, там окно выбито. Говорили же, что не надо сажать в эту камеру. Конечно, уже третий или четвертый случай. Если он до утра дубаря врежет, нам за него не поздоровится». Разговор окончился. Кормушка открылась, заспанное лицо надзирателя показалось в проеме. «В 6 утра переведём. Сейчас некому». «Это безобразие. Здесь ледник». «До шести утра нет никого». Кормушка закрылась.
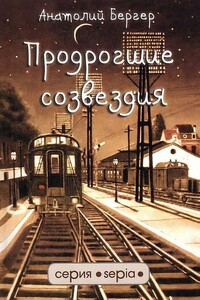
Первая книга Анатолия Бергера «Подсудимые песни» вышла в 1990 году. До перестройки имя поэта, осужденного в 1969 году за свои произведения по статье 70 УК РСФСР (за антисоветскую пропаганду и агитацию), было под запретом. «Продрогшие созвездия» — двенадцатая книга Бергера. Здесь избранные стихи — начиная с шестидесятых годов и до наших дней (по десятилетьям), проза — рассказы, воспоминания, маленькая повесть «Стрелы огненные» о любви Владислава Ходасевича и Нины Берберовой, «Внезапные заметки». Пьесы — «Моралите об Орфее» написана в 1968 году, действие в ней перенесено из античности в средние века, где певца, естественно, арестовали, а кэгэбисты шестидесятых годов двадцатого столетия сочли это аллюзией на наши дни и, также естественно, включили «Моралите» в «состав преступления», вторая пьеса «Посмертная ремарка» написана уже в девяностые, в ней поэт, рассматривая версию об авторстве шекспировских произведений, подымает навсегда злободневную тему — об авторстве и самозванстве.
![Времён крутая соль [сборник]](/storage/book-covers/6d/6d35a7a35b0a1e9e5c7a135e510eedd4f5cd9810.jpg)
«Времён крутая соль» — избранное Анатолия Бергера, где к стихам разных лет присоединились «Внезапные заметки» — короткие записки и своего рода стихотворения в прозе. «Времён крутая соль» — десятая книга поэта. В ней главные его темы: Время в философском осмыслении и в живой реальности, мифологическая древность и век XXI, поразившие воображение чужие города и Россия, родной Петербург, как всегда, говорящая природа и строгие строки о любви, биография человека Анатолия Бергера и тайная жизнь души поэта.

«…Стихи Бергера разнообразны и по «состоянию минуты», и по тематике. Нет болезненного сосредоточения души на обиде — чувства поэта на воле. Об этом говорят многочисленные пейзажи, видения прошлых веков, лирические моменты. Постоянна — молитва о России, стране тиранов и мучеников, стране векового «гордого терпения» и мужественного противления временщикам. 6 лет неволи — утрат и сожалений не перечесть. Но благо тому, кто собственным страданием причастился Страданию Родины…».
![Состав преступления [сборник]](/storage/book-covers/d0/d0d8174b681e172a2371f16a2893f0c2b4082e39.jpg)
«Состав преступления» — девятая книга поэта Анатолия Бергера. В ней собрана его проза — о тюрьме, лагерях, этапе, сибирской ссылке конца шестидесятых-семидесятых годов прошлого века, о пути, которым довелось пройти: в 1969 году за свои произведения Анатолий Бергер был осужден по статье 70 УК РСФСР за антисоветскую агитацию и пропаганду на 4 года лагеря и 2 года ссылки. Воспоминания поэта дополняют мемуары его жены — журналиста и театроведа Елены Фроловой по другую сторону колючей проволоки.

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.
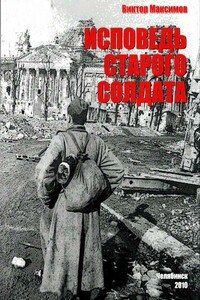
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.
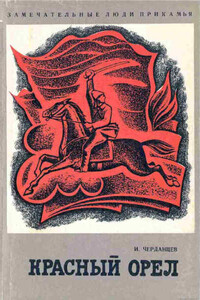
Эта книга рассказывает о героических днях гражданской войны, о мужественных бойцах, освобождавших Прикамье, о лихом и доблестном командире Филиппе Акулове. Слава об Акулове гремела по всему Уралу, о нем слагались песни, из уст в уста передавались рассказы о его необыкновенной, прямо-таки орлиной смелости и отваге. Ф. Е. Акулов родился в крестьянской семье на Урале. Во время службы в царской армии за храбрость был произведен в поручики, полный георгиевский кавалер. В годы гражданской войны Акулов — один из организаторов и первых командиров легендарного полка Красных орлов, комбриг славной 29-й дивизии и 3-й армии, командир кавалерийских полков и бригад на Восточном, Южном и Юго-Западном фронтах Республики. В своей работе автор книги И.