Головокружения - [13]
В вокзальном буфете стоял поистине адский гвалт. Подобно клочку твердой суши высился он посреди волнующегося, будто поле спелых колосьев на ветру, скопища людей – одни волнами вливались в двери, другие изливались оттуда, третьи прибоем прокатывались возле буфета, четвертые устремлялись дальше, к сидящим поодаль на возвышении кассиршам. Если, как в моем случае, испытываешь потребность в билете, следовало сперва, крича изо всех сил, донести свою нужду до одной из сидевших наверху на троне дам – облаченных только в халатики обладательниц курчавых волос и потупленных взоров; с полнейшим равнодушием они парили над головами просителей и произвольно, как мне казалось, выхватывали то одно, то другое из путаных пожеланий настойчивых, срывающихся голосов и при этом громко, тоном чуждой всяких сомнений убежденности повторяли просьбу поверх нестерпимого шума, после чего называли цену требуемого, в точности как если бы здесь, в этом зале, оглашался окончательный приговор третейского судьи, и, слегка наклонившись вперед, милостиво и одновременно с легким презрением вручали кому-нибудь бумажку и мелочь. Только став обладателем билета, ощущавшегося уже как жизненная необходимость, можно было выбираться из толпы и пробиваться в середину кафе, где за круглым прилавком высились мужчины, работники этого невероятного гастрономического предприятия, которые в полном презрении к смерти и, противостоя, иначе не скажешь, напирающему со всех сторон народу, исполняли свою работу – с абсолютной невозмутимостью на фоне всеобщей паники, наводившей на мысли о растяжимости времени. Малоподвижные официанты в белых крахмальных льняных куртках, как и их сестры, матери и дочери наверху, за кассовыми аппаратами, походили на своеобразное сообщество высших существ, которые по какой-то неясной системе вершили здесь суд над племенем, одержимым эндемической алчностью, причем такое впечатление лишь усиливалось оттого, что этим исполненным достоинства мужчинам в белых одеждах, находившимся во внутреннем круге, очевидно на возвышении, буфетная стойка доставала приблизительно до бедра, тогда как стоящим снаружи она доходила до плеч, а то и до подбородка. Персонал, в остальном весьма сдержанный, шваркал стаканы, блюдца и пепельницы на мраморную стойку с такой неистовой силой, что можно было подумать, будто они намеренно стараются подогнать все на грань падения и раскола. Мне подали капучино, и на мгновение мне почудилось, будто я одержал самую большую победу в жизни, получил знак отличия. Облегченно вздохнув, я бросил взгляд на круг стойки и тут же понял свою ошибку, увидев, как мне представилось, одни лишь отрубленные головы. Если бы кто-нибудь из крахмальных официантов легким движением руки смахнул эти отрезанные головы, не исключая моей, с гладкой мраморной поверхности и они упали в ров живодера, меня бы это совершенно не удивило, напротив, в тусклом свете показалось бы совершенно справедливым, поскольку головы ясно и недвусмысленно обнаруживали полное единство в том, чтобы напоследок, можно и так сказать, что-нибудь в себя опрокинуть или запихнуть. Во власти подобного рода недобрых наблюдений и, признаться, весьма путаных идей мне вдруг почудилось, будто в кругу этих привидений, поедающих утренние пайки и занятых исключительно собой, я случайно наткнулся на чей-то взгляд, и действительно, я обнаружил две пары направленных на меня глаз. Обладатели глаз стояли напротив, облокотившись на стойку. Один подпирал подбородок правой рукой, другой – левой. Словно тень облака, упавшая на поле, меня накрыло опасение, что двое молодых людей, которые – это вовсе не плод моего воображения – смотрели на меня сейчас через стойку, не раз уже с того момента, как я прибыл в Венецию, попадались мне на пути: и в баре на набережной Рива-дельи-Скьявони, где я встретил Малакьо, среди посетителей они были тоже. Стрелка часов приблизилась к половине одиннадцатого. Я допил капучино и, время от времени поглядывая назад через плечо, вышел на платформу, а там, как и собирался, сел в миланский поезд, чтобы добраться до Вероны.
В Вероне я снял комнату в «Золотой голубке» и тотчас же, по обыкновению, отправился в Сад Джусти. Там я провел послеполуденные часы, лежа на каменной скамье под кедром. Слушал, как ветерок пробегает сквозь крону, то в одну, то в другую сторону, слушал тихий шорох, который производит садовник, ровняя гравийные дорожки между невысокими изгородями из самшита, чей мягкий аромат ощущался в воздухе даже сейчас, осенью. Давно уже не было мне так хорошо. Наконец я поднялся. Выходя из парка, некоторое время наблюдал за парой белых голубей – несколько раз кряду они, слегка хлопая крыльями, круто взмывали над верхушками деревьев, зависали в синей небесной выси и, кувырнувшись вперед, с воркующим звуком, какой едва ли способно издавать горло, в парящем полете скользили вниз широкими полукружьями вокруг красавцев-кипарисов, иные из которых, возможно, стояли здесь еще двести лет назад. Вечная зелень кипарисов напомнила мне о тисах во дворах церквей английского графства, где я живу. Тисы растут медленнее, чем кипарисы. В одном дюйме тисовой древесины нередко насчитывают более сотни годичных колец, и, как говорят, некоторые из этих деревьев изрядно старше тысячи лет, а то и вообще позабыли о смерти. Я вернулся к входу и в фонтанчике, устроенном там в поросшей плющом парковой стене, вымыл, как и по пути сюда, лицо и руки, бросил последний взгляд на парк и, повернувшись к выходу, попрощался с привратницей, кивнувшей из темной будки. Через Понте-Нуово по улицам Ницца и Стелла спустился к площади Бра. Едва я вступил на Арена-ди-Верона, возникло ощущение, будто я впутался в какую-то темную историю. Амфитеатр был безлюден, если не считать группы запоздалых экскурсантов, которым их чичероне, чей возраст определенно приближался к восьмидесяти годам, а то и превосходил это число, высоким надтреснутым старческим голосом описывал особенности сооружения. Я взобрался на самые верхние ряды и оттуда смотрел вниз на группу, казавшуюся теперь очень маленькой. На старике, рост которого едва ли сильно превышал четыре фута, было надето не по размеру большое полупальто – он шел сгорбившись, сильно наклонившись вперед, и полы спереди доставали до земли. На редкость отчетливо – яснее, наверное, чем люди вокруг него, – я услышал, как он говорит, что в этом амфитеатре grazie a un’acustica perfetta… слышно l’assolo più impalpabile di un violino, la mezza voce più eterea di un soprano, il gemito più intimo di una Mimi morente sulla scena. Туристов, как мне показалось, не слишком впечатляли восторги их согбенного экскурсовода по поводу нюансов оперы и архитектуры, а он, двигаясь уже по направлению к выходу, прибавлял то одну, то другую прелестную подробность, каждый раз останавливаясь, оборачиваясь назад и поднимая правый указательный палец навстречу группе, которая вслед за ним тоже останавливалась, – будто крошечный школьный учитель беседовал с учениками, переросшими его на целую голову. Почти горизонтально падал на меня теперь вечерний свет над краями арены, и долго еще после того, как старик и его слушатели покинули амфитеатр, я сидел там в полном одиночестве, окруженный лишь розоватым мерцанием мрамора, по крайней мере мне так казалось, ведь только по прошествии некоторого времени я заметил две фигуры, устроившиеся на камнях в глубокой тени по другую сторону арены. Сомнений быть не могло: снова те два молодых человека, чьи взгляды были нацелены на меня ранним утром на вокзале в Венеции. Подобно двум стражам, они неподвижно сидели на своих местах, пока свет полностью не покинул арену. Тогда они оба встали и, как мне показалось, поклонились друг другу, прежде чем спуститься вниз и исчезнуть в черноте выхода. А я был не в состоянии тронуться с места, столь многозначительными представились мне эти, скорее всего, совершенно случайные встречи. Я уже представлял себе, как сижу здесь всю ночь, парализованный страхом и холодом. Пришлось мобилизовать все здравомыслие, чтобы просто встать и двинуться к выходу. Я одолел почти полпути, когда с невероятной навязчивостью меня захватила картина, будто, со свистом разрезая серое пространство, летит стрела, которая вот-вот пробьет мне левую лопатку и с особенным чавкающим звуком застрянет в сердце.

Роман В. Г. Зебальда (1944–2001) «Аустерлиц» литературная критика ставит в один ряд с прозой Набокова и Пруста, увидев в его главном герое черты «нового искателя утраченного времени»….Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века».
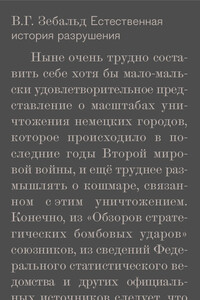
В «Естественной истории разрушения» великий немецкий писатель В. Г. Зебальд исследует способность культуры противостоять исторической катастрофе. Герои эссе Зебальда – философ Жан Амери, выживший в концлагере, литератор Альфред Андерш, сумевший приспособиться к нацистскому режиму, писатель и художник Петер Вайс, посвятивший свою работу насилию и забвению, и вся немецкая литература, ставшая во время Второй мировой войны жертвой бомбардировок британской авиации не в меньшей степени, чем сами немецкие города и их жители.

В. Г. Зебальд (1944–2001) — немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Кольца Сатурна» вышел в 1998 году.
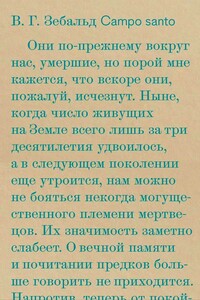
«Campo santo», посмертный сборник В.Г. Зебальда, объединяет все, что не вошло в другие книги писателя, – фрагменты прозы о Корсике, газетные заметки, тексты выступлений, ранние редакции знаменитых эссе. Их общие темы – устройство памяти и забвения, наши личные отношения с прошлым поверх «больших» исторических нарративов и способы сопротивления небытию, которые предоставляет человеку культура.

Нелл Слэттери выжила в авиакатастрофе, но потеряла память. Что ожидает ее после реабилитации? Она пытается вернуть воспоминания, опираясь на рассказы близких. Поначалу картина вырисовывается радужная – у нее отличная семья, работа и жизнь в достатке. Но вскоре Нелл понимает, что навязываемые ей версии пестрят неточностями, а правда может быть очень жестокой. Воспоминания пробиваются в затуманенное сознание Нелл благодаря песням – любимым композициям, каждая из которых как-то связана с эпизодом из ее жизни.

«Юность разбойника», повесть словацкого писателя Людо Ондрейова, — одно из классических произведений чехословацкой литературы. Повесть, вышедшая около 30 лет назад, до сих пор пользуется неизменной любовью и переведена на многие языки. Маленький герой повести Ергуш Лапин — сын «разбойника», словацкого крестьянина, скрывавшегося в горах и боровшегося против произвола и несправедливости. Чуткий, отзывчивый, очень правдивый мальчик, Ергуш, так же как и его отец, болезненно реагирует на всяческую несправедливость.У Ергуша Лапина впечатлительная поэтическая душа.
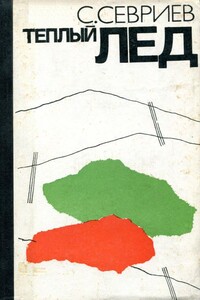
В книгу вошли рассказы, посвященные участию болгарской Народной армии в боевых действиях против гитлеровских войск на заключительном этапе второй мировой войны, партизанскому движению в Болгарии, а также жизни и учебе ее воинов в послевоенный период. Автор рисует мужественные образы офицеров и солдат болгарской Народной армии, плечом к плечу с воинами Советской Армии сражавшихся против ненавистного врага. В рассказах показана руководящая и направляющая роль Болгарской коммунистической партии в строительстве народной армии. Книга предназначена для массового читателя.

Новая книга В. Фартышева состоит из повестей и рассказов. В повести «История одной ревизии» поднимаются крупные и острые проблемы в современной экономике и управлении, исследуются идейные и нравственные позиции молодых ревизоров, их борьба с негативными явлениями в обществе. Повесть «Белоомут» и рассказы посвящены экологическим и морально-нравственным проблемам.

Впервые в Российской фантастике РПГ вселенского масштаба! Технически и кибернетически круто продвинутый Сатана, искусно выдающий себя за всемогущего Творца мирозданий хитер и коварен! Дьявол, перебросил интеллект и сознание инженера-полковника СС Вольфа Шульца в тело Гитлера на Новогоднюю дату - 1 января 1945 года. Коварно поручив ему, используя знания грядущего и сверхчеловеческие способности совершить величайшее зло - выиграть за фашистов вторую мировую войну. Если у попаданца шансы в безнадежном на первый взгляд деле? Не станет ли Вольф Шульц тривиальной гамбитной пешкой?
