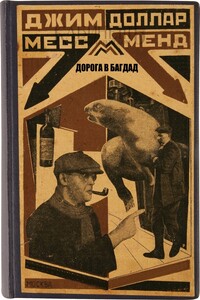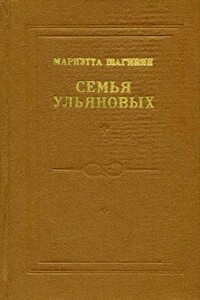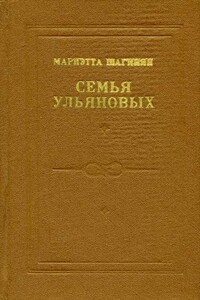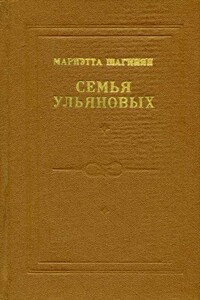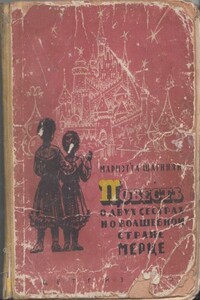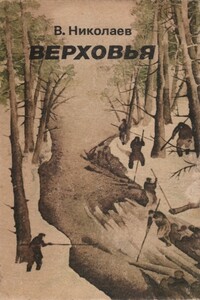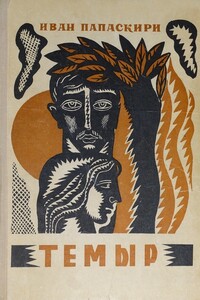— Не понимаю ни бельмеса, — дрожащим голосом проговорил Андрей.
— Ага, не понимаете! Нет, вздор, понимаете, приятель! Понимаете вы, что, когда вам плохо, мне хорошо! Чтобы один был счастлив, надо другому быть несчастливым! Когда один слагается в единицу, будьте уверены, что кто-нибудь другой разлагается. Это вы понимаете?
— Вы заразились наивным дарвинизмом, Игнатий. Борьба за существование…
— Мне наплевать, дарвинизмом или вампиризмом или чем там хотите! — перебил его Игнатий в бешенстве. — Не воображайте, что от таких слов вы поумнеете. Дело в том, что элементы поедают друг друга. Физические, душевные, духовные элементы — всякие. В материи нет сознания, и она от этого не страдает. А мы… мы…
— Игнатий, родной, успокойтесь! Не создавайте себе призраков, — с отчаянием молил Андрей, хватая друга за руки.
— А мы любим друг друга и потому страдаем, — продолжал Игнатий упавшим голосом, — до того любим, что начинаем ненавидеть, чтобы не так страшно было поедать. Вот, будь вы женщиной, я до этого никогда бы не додумался. Женщина как-то так пристроилась к нам с незаметностью: ты ее ешь снаружи, а она тебя внутри. Век проживешь и не заметишь. Но человек с человеком — это невыносимо, этого нельзя не узнать!
Андрей съежился на своем стуле, уронил книжку с только что помеченным в ней профессорским «весьма», подпер кулаком лицо, сразу ставшее маленьким и жалким, и ничего больше не говорил.
Игнатий и Андрей разъехались. Оба вышли в люди: один строит дома, другой лечит больных. Но ни тот, ни другой не забыли последнего разговора и все ищут, каждый на свой лад, тайну людского сожительства, при котором все получали бы и никто ничего не терял.