Голоса тишины - [156]
Таким образом, наша культура состоит не из совместимого прошлого, а из несовместимых сторон прошедшего. Мы знаем, что она не инвентарий, что наследие есть метаморфоза, а прошлое обретается в борьбе; что в нас, благодаря нам, оживает диалог призраков, где вольно себя чувствовала риторика. Чем бы обменивались на берегу Стикса Аристотель и пророки Израиля, если не бранью? Чтобы мог завязаться диалог Христа и Платона, нужно было, чтобы родился Монтень[439]. Однако наше Возрождение не служит некоему предвзятому гуманизму; как и Монтень, оно нуждается в ещё не сформулировавшемся гуманизме.
Глядя на груду мёртвых ценностей, мы обнаруживаем, что ценности живут и умирают, не порывая с судьбой. Высшие идеалы, как и человеческие типы, выражающие высочайшие из них, суть механизмы защиты человека. Каждый из нас ощущает, что святой, мудрец, герой – победители в борьбе с уделом человеческим. Однако святые буддизма непохожи, не могут походить ни на святого Петра, ни на святого Августина; так же как Леонид – на Байяра[440], или Сократ – на Ганди. И последовательность недолговечных ценностей, каждая из которых идёт в русле цивилизации: сознание тао[441], индуистская покорность космосу, греческое вопрошание, средневековое причастие, разум, история – ещё яснее показывают, как тускнеют идеалы, когда они перестают быть спасительными.
Идеалы, воплощаемые или созданные художественным гением, (гением, а не представлением какой-нибудь эпохи), также приходят к упадку для сообществ, к которым они обращены, когда христианский мир или группа людей перестают их защищать; они возрождаются, когда, как кажется, люди отстаивают другие ценности. Но мы не пытаемся найти в некоторых из них предвосхищение наших идеалов; мы не столько наследники тех и иных конкретных ценностей или всех ценностей без разбора, сколько их совокупности, особенно того глубинного течения, которое вызвало их к жизни. Наконец, мы осознали их собственную природу, как гегельянство осознало не забытые идеалы, а историю; и наша цивилизация впервые поднимает против судьбы всю совокупность искусства, выявленную современностью. Возрождение не предпочло несколько увиденных мельком великих греческих творений александрийским статуям и не предпочло бы «Кору Евтидикос» «Лаокоону». Это мы, а не наши потомки, открываем сокровища, создававшиеся на протяжении столетий с тех пор, как высшим идеалом для наших художников стало творчество; мы спасём от забвения смерти живое прошлое Музея. И здесь показательно наше трепетное отношение к изуродованной статуе, к бронзе, добытой в раскопках. Мы не коллекционируем ни стёршиеся барельефы, ни предметы, пострадавшие от окисления; нас привлекает не присутствие смерти, а продление жизни. Искалечивание – это след борьбы, внезапно возникающее время: время, включённое в произведения прошлого, подобно материалу, из которого они созданы, и возникающее из перелома, как угрожающей безвестности, где соединяются хаос и зависимость; изуродованный торс Геркулеса – символ всех музеев мира.
Новым поклонником Геркулеса, последним воплощением судьбы является история; но, хотя человек Музея и создан ею, едва ли для истории он важнее легендарных богов. Он родится одновременно с произведениями, связанными со своим временем, как, например, произведения Грюневальда, из произведений, которые от него ускользают: есть барочный Микеланджело, но «Пьета Ронкалли», даже «Ночь», наводят на мысль о Бурделе, который мог бы быть Микеланджело скорее, нежели итальянские скульпторы: «Брут» – не флорентийская голова. Есть барочный Рембрандт, но «Три креста», «Христос в Эммаусе» не характерны ни для XVII века, ни для голландцев. Словно фронтон храма, Расин увенчивает цивилизацию, которая его породила. Рембрандт венчает цивилизацию, в которой родился, как красный трепещущий отблеск пожара. История в искусстве имеет свои границы, которые суть сама судьба, ибо они воздействуют на художника не потому, что собирают последовательных сторонников, а потому что каждое время содержит в себе некую форму коллективной жизни и заставляет признать эту форму всё, что борется против неё; чтобы это воздействие ослабевало, довольно встречать иные формы судьбы. «Просвещение» не одерживает верх над болезнью Гойи, блеск Рима – над тревогой Микеланджело, а Голландия XVII века – над Откровением Рембрандта. Гигантская область искусства, которая поднимается к нам из прошлого, не представляет вечности и не стоит над историей; она одновременно связана с нею и ускользает от неё, подобно Микеланджело, уходящего от Буонаротти. Её прошлое – не завершённое, но возможное время; оно не навязывает фатальность, оно устанавливает связь. Бодхисатвы эпохи Вэй и бодхисатвы Нары, кхмерские и яванские скульптуры, живопись эпохи Сун выражают не ту же космическую общность, что романский тимпан, танец Шивы или всадники Парфенона; все эти произведения, однако, отражают нечто общее, вплоть до «Кермессы» Рубенса. Достаточно взглянуть на любой греческий шедевр, чтобы увидеть, что, как бы он ни превосходил религиозный восточный шедевр, его триумф основан не на разуме, а на «бесчисленной улыбке волн». Удаляющийся раскат античной молнии оркеструет, не заглушая, бессмертную очевидность Антигоны: «Делить любовь – удел мой, не вражду». Греческое искусство создано не для одиночества, это искусство общности с космосом, урезанной Римом. Когда становление или судьба занимают место бытия, история заменяет теологию, искусство же предстаёт в своей множественности и метаморфозе; абсолюты, преображённые воскрешением искусств, восстанавливают с моделируемым ими прошлым связь греческих богов и космоса. В том смысле, в котором Амфитрита была богиней моря, образом, передающим благотворность волн, греческое искусство – наше божество Греции: это оно, а не олимпийские небожители выражают нам его в своей высочайшей ипостаси, братской и побеждающей время, ибо только через него Греция проникает в нашу душу. Оно выражает то, что на протяжении истории Греции и неотделимо от неё было особой формой божественной силы, чьим свидетельством является любое искусство. Человек, о котором заставляет думать множество проявлений этой силы, – исполнитель грандиознейших событий, а также родоначальник, основа, откуда поднимаются побеги, то и дело переплетающиеся и незнакомые друг с другом. Победа, подобная тем, что некогда одержал он над демонами Вавилона, глухо отозвалась в каком-нибудь тайном уголке нашей души. От «

Разыскивать в джунглях Камбоджи старинные храмы, дабы извлечь хранящиеся там ценности? Этим и заняты герои романа «Королевская дорога», отражающего жизненный опыт Мольро, осужденного в 1923 г. за ограбление кхмерского храма.Роман вновь написан на основе достоверных впечатлений и может быть прочитан как отчет об экзотической экспедиции охотников за сокровищами. Однако в романе все настолько же конкретно, сколь и абстрактно, абсолютно. Начиная с задачи этого мероприятия: более чем конкретное желание добыть деньги любой ценой расширяется до тотальной потребности вырваться из плена «ничтожной повседневности».

Роман Андре Мальро «Завоеватели» — о всеобщей забастовке в Кантоне (1925 г.), где Мальро бывал, что дало ему возможность рассказать о подлинных событиях, сохраняя видимость репортажа, хроники, максимальной достоверности. Героем романа является Гарин, один из руководителей забастовки, «западный человек" даже по своему происхождению (сын швейцарца и русской). Революция и человек, политика и нравственность — об этом роман Мальро.

Роман А. Мальро (1901–1976) «Надежда» (1937) — одно из лучших в мировой литературе произведений о национально-революционной войне в Испании, в которой тысячи героев-добровольцев разных национальностей ценою своих жизней пытались преградить путь фашизму. В их рядах сражался и автор романа.

«Публикация «Демона абсолюта», которой пришлось ждать почти полвека, не может полностью насытить ни любителей романов, ни любителей биографий. Несомненно, из нее можно много узнать о Среднем Востоке во время войны 1914 года и о действиях полковника Лоуренса: повествование Мальро явно не делает тусклой эту жизнь, которая сама по себе похожа на роман. Однако даже если она слегка не закончена, и даже если ее трудно отнести к определенному жанру, эта книга поражает своей оригинальностью и интересностью. Не являясь неизвестным шедевром, о котором долго мечтали, обнаруженный текст уже вскоре стал существенным, и не только для любителей Мальро.

Один из программных текстов Викторианской Англии! Роман, впервые изданный в один год с «Дракулой» Брэма Стокера и «Войной миров» Герберта Уэллса, наконец-то выходит на русском языке! Волна необъяснимых и зловещих событий захлестнула Лондон. Похищения документов, исчезновения людей и жестокие убийства… Чем объясняется череда бедствий – действиями психа-одиночки, шпионскими играми… или дьявольским пророчеством, произнесенным тысячелетия назад? Четыре героя – люди разных социальных классов – должны помочь Скотланд-Ярду спасти Британию и весь остальной мир от древнего кошмара.
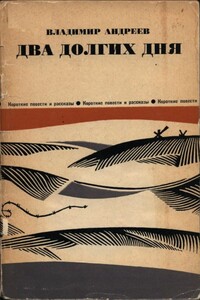
Повесть Владимира Андреева «Два долгих дня» посвящена событиям суровых лет войны. Пять человек оставлены на ответственном рубеже с задачей сдержать противника, пока отступающие подразделения снова не займут оборону. Пять человек в одном окопе — пять рваных характеров, разных судеб, емко обрисованных автором. Герои книги — люди с огромным запасом душевности и доброты, горячо любящие Родину, сражающиеся за ее свободу.
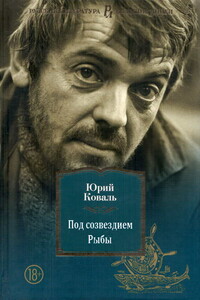
Главы из неоконченной повести «Под созвездием Рыбы». Опубликовано в журналах «Рыбоводство и рыболовство» № 6 за 1969 г., № 1 и 2 за 1970 г.
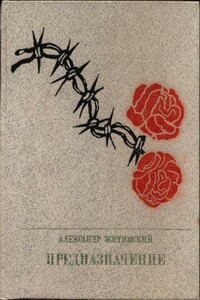
Александр Житинский известен читателю как автор поэтического сборника «Утренний снег», прозаических книг «Голоса», «От первого лица», посвященных нравственным проблемам. Новая его повесть рассказывает о Людвике Варыньском — видном польском революционере, создателе первой в Польше партии рабочего класса «Пролетариат», действовавшей в содружестве с русской «Народной волей». Арестованный царскими жандармами, революционер был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где умер на тридцать третьем году жизни.
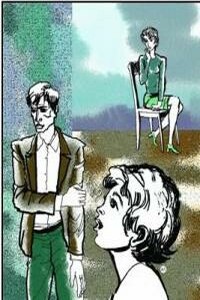
Сегодня мы знакомим читателей с израильской писательницей Идой Финк, пишущей на польском языке. Рассказы — из ее книги «Обрывок времени», которая вышла в свет в 1987 году в Лондоне в издательстве «Анекс».
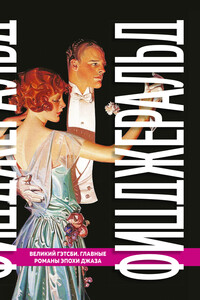
В книге представлены 4 главных романа: от ранних произведений «По эту сторону рая» и «Прекрасные и обреченные», своеобразных манифестов молодежи «века джаза», до поздних признанных шедевров – «Великий Гэтсби», «Ночь нежна». «По эту сторону рая». История Эмори Блейна, молодого и амбициозного американца, способного пойти на многое ради достижения своих целей, стала олицетворением «века джаза», его чаяний и разочарований. Как сказал сам Фицджеральд – «автор должен писать для молодежи своего поколения, для критиков следующего и для профессоров всех последующих». «Прекрасные и проклятые».