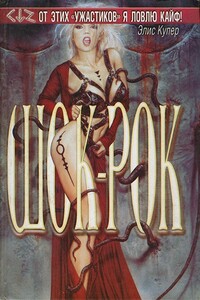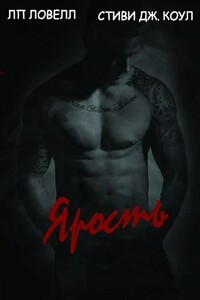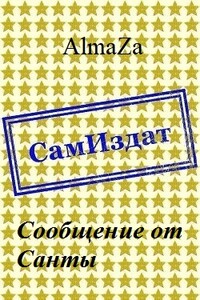— Я обгорела в пожаре, — говорит она. Да, я сам это вижу. И где, интересно, моя бесшабашная смелость и пофигизм?! Я пячусь назад, мелко-мелко перебирая ногами, как идиот. Я отворачиваюсь. Я хочу кричать. Я хочу бежать прочь.
Я не знаю, что она говорит. Может быть, «не уходи». Или «давай выпьем кофе». Или рассказывает о том, сколько раз ей пересаживали кожу, пока врачи не сотворили эту растянутую резиновую нашлепку на половину лица, пока они не разукрасили эту кошмарную половину алыми сморщенными рубцами, пока она не превратилась в крик обезображенной плоти на белой кости.
Или, быть может, она говорит: «Мне еще повезло, что я вообще осталась жива». Но я ухожу… моя маленькая, прости, мне безумно жаль, но я все-таки УХОЖУ. Знаешь, я этого просто не вынесу. Не могу. И, быть может, она говорит, что у нее все такое на левой стороне… или на правой… и не хотелось бы мне «ПОСМОТРЕТЬ САМОМУ, ТРУС ПРОКЛЯТЫЙ, ДЕРЬМО ЦЫПЛЯЧЬЕ!».
Ее голос хлещет меня как хлыст, пока я бегу до машины.
— Вернись, сукин сын! — кричит она из домофона. — ВЕРНИСЬ, И Я ПОКАЖУ ТЕБЕ ВСЕ, ЖАЛКИЙ ТЫ ЧЛЕНОСОС.
Горькие, едкие слова обжигают меня.
— СЛАВНУЮ ШУТКУ СЫГРАЛА НАД НАМИ СУДЬБА! — кричит она со своего трона. Потому что она меня тоже видела.
Вот так я и расстаюсь с ней — в ее неземной благодати, дарованной безжалостным Богом, чьи деяния неоспоримы. Я еду домой, чтобы молиться за нас обоих. За себя и за Владычицу нашу. Пречистую Деву Патрицию.