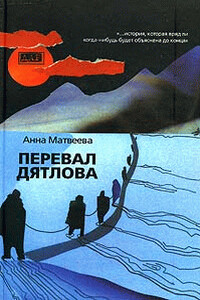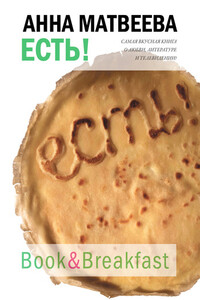Витя Круглянко, узнав о том, что задумал Голев, посоветовал не дожидаться окончания праздничного запоя Полуяхтенко, а явиться к нему в первый же рабочий день.
— Сколько-сколько тебе надо?! — уже тепленький с утра Полуяхтенко рыгнул от неожиданности. — Сколько?!
Голев повторил.
Директор хохотнул и вытер мокрый лоб какой-то ксерокопией.
— Ты шо, мужик? Ты шо, думаешь, я их рисую?
Потом помрачнел и сказал:
— Ну ладно, дам. Шо, в натуре, помогать надо. Завтра дам.
Уже на выходе окликнул счастливого Голева криком:
— С завтрашнего дня новый проект! Отправляем всех желающих в Надым! Вахтенным методом!
Завтрашнего дня для Полуяхтенко так и не случилось.
«В собственном подъезде, — вкрадчиво рассказывал корреспондент вечерних новостей, — убит двумя выстрелами в голову бизнесмен, близкий к криминальным кругам… — Корреспондент взял паузу, а на экране показывали двоих неподвижных навсегда людей с какими-то растерянными выражениями лиц, — директор фирмы „Надежда“ Никита Полуяхтенко вместе с женой, — еще одна пауза, — Надеждой».
Голев немедленно позвонил Вите Круглянко, но телефон не отвечал, и гудки будто становились длиннее раз от раза.
На похороны пришли вместе с Танькой. Голева смутила торжественная парадность мероприятия: гробы чуть ли не красного дерева, памятники мраморные, с инкрустациями, венки и роскошные букеты, среди которых совершенно затерялись простецкие голевские лилии.
Подошел Круглянко в черной кожаной куртке, в черных очках на носу. Вид у него был какой-то непривычный, почти бандитский.
— Ну вот, стало быть… — заметил Витя, глядя на гробы и облагороженные смертью лица начальников, — все там будем…
Играл живой оркестр, плечистые пацаны несли гробы привычно, как мебель, тут же было телевидение: Голев несколько раз с непривычки пугался черного, пустого взгляда видеокамеры.
2
Витя Круглянко сказал, что биржа закроется, оказывается, мертвый Полуяхтенко задолжал много денег, за что его и… (Витя изобразил из пальцев пистолет и достоверно приложил к виску). Так что все, чем обладали при жизни Полуяхтенко и его жена Надежда, пойдет в счет долга: и коттедж на берегу, и квартира, и новый «Мицубиси паджеро», и помещение офиса вместе с биржей. Сотрудники, то бишь Голев и уборщица, могут, к сожалению, считать себя свободными.
— Слушай, Вить, — аккуратно поинтересовался Голев, — а у него ведь ребенок…
Надежда как-то показывала ему фотографию тучной девочки с жертвенным взглядом и в бархатном синем платье. Девочка сидела на коленях у Деда Мороза, который больше походил на Санта-Клауса или, того пуще, Пер-Ноэля.
— Настюшка, — быстро подтвердил Круглянко и откашлялся. — Настюшку забрали Надины родители. В Ленинхрад.
Голев задумчиво возвращался из офиса, шел этой дорогой в последний раз и думал, что жизнь устроена вроде бы верно и в то же время так неправильно! В самом деле, вот жил человек Полуяхтенко, Никита Иванович. Он, возможно, был и не самым хорошим человеком, но ему, Голеву лично, он очень помог. И жена у него была — Надежда. Насколько чернявая, настолько и ревнивая. Они жили вместе, занимались любовью, пили вино и жарили шашлыки. У них родилась дочка. Настюшка.
А теперь — чпок, чпок, и все. Будто вино из бутылки вылилось и ушло в землю. Навсегда. На кладбище стоит мраморный памятник, совершенно не нужный Никите Полуяхтенко и Надежде в их теперешнем состоянии. А девочка Настюшка, толстощекая, как папа, — таких детей в школе всегда дразнят — будет жить сиротой. В Ленинхраде, который, кстати, теперь называется Санкт-Петербургом, впрочем, у Круглянки он все равно бы прозвучал как Санкт-Петербурх.
И еще одна мысль не давала тонкокожему Голеву покоя. Она всегда его мучила после того, как кто-нибудь умирал. Человека похоронили, оплакали, завалили землей, прижали памятником, а он ведь там так и лежит! Остался в земле! Ничего не изменилось, несмотря на все оплакивания и старания: Голев, Танька, плечистые пацаны, Круглянко, корреспонденты, операторы — ушли, вытерли слезы, напились, сделали информационный сюжет, успокоились, а Полуяхтенки оба лежат в земле. И будут лежать завтра, послезавтра, через год, всегда. Голев встает утром, ест завтрак, мирно переругивается с Луэллой, ведет Полю и Севу в садик. А Полуяхтенки — все там же. Танька готовит рыбные котлеты, штопает носки, читает газету, Полуяхтенки — в земле. Луэлла курит, втягивая щеки, ругает маму Юлю за склероз, Полуяхтенки — в земле.
Неизменность — вот что пугало Голева больше всего. Неизвестность и неизменность…
Во время всех этих переживаний звонила Катя и сообщала, что ее поэта наконец-то стали печатать, а еще в нем проснулся талант к созиданию текстов для современных музыкальных исполнителей; проще говоря, для попсы. Поэту даже выплачивали теперь неплохие деньги, хотя он стеснялся и в договорах выступал под псевдонимом Кутьин (настоящая его фамилия была Кичитский). Адельбертик даже пошел в платный детский сад, хвасталась Катя, а сама она второй месяц трудилась в каком-то банке на хрестоматийно хорошо оплачиваемой должности уборщицы. Голев мычал и кивал в трубку — сестра никогда не была ему близка.