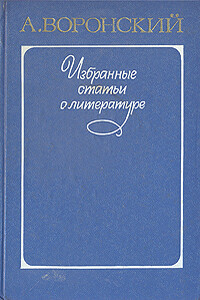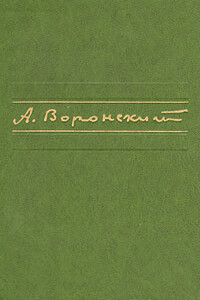Гоголь - [119]
Это была ошибка. И чем скорее в наши дни покончат с этой ошибкой, тем будет лучше для советской литературы. Пушкинский и толстовский метод изображения есть только один из методов художественного творчества. Есть другой метод, метод Гоголя, Достоевского, Островского, Салтыкова-Щедрина, Успенского. И не случайно в так называемом обличительном, отрицательном направлении русской литературы метод Гоголя являлся преобладающим. Он действительно очень выразителен и народен.
Фигура выделяется с предельной рельефностью, легко запечатлевается в памяти, внимание не рассеивается, а сразу сосредоточивается на главном, между тем как пушкинское изображение требует бо́льшего напряжения, бо́льшего внимания и размышления. Так, где надо резко что-нибудь или кого-нибудь обличить, осмеять, выставить «на всенародные очи», гоголевский прием незаменим. И так как советской литературе приходится очень часто и очень многое выставлять «на всенародные очи», обличать и осмеивать, то гоголевская манера имеет право на существование не менее пушкинской. До сих пор манера Гоголя среди советских писателей была в загоне; оглядывались больше на Толстого и Пушкина. Права Гоголя пора восстановить. Социалистическому реализму нет причины в этом отказывать Гоголю.
Но спросят: «А как же быть со схемой; мы не хотим схемы.» Но схемы у Гоголя нет и в помине. Вернее сказать: Гоголь добивался поразительных результатов: его образ и схематичен, и одновременно предельно конкретен. Гоголевские герои олицетворяют всегда какую-нибудь страсть. В этом смысле они — схематичны и аллегоричны; но вместе с тем они поданы с мелкими и мельчайшими подробностями, необычайной вещественностью и физиологичностью. В силу этого они оживают на наших глазах, они вполне жизненные, а не восковые фигуры. В этом соединении схемы с вещественностью тайна гоголевского мастерства. У его позднейших последователей эта удивительная манера сплошь и рядом снижается: снижена она Достоевским, еще более снижена Салтыковым-Щедриным; отдавая должное их гению в других областях, надо сказать, что им часто не хватает этого виртуозного, вполне органического соединения схемы с «орлиным соображением вещей». Словом, тут есть чему поучиться у Гоголя современной советской литературе.
Перед советской литературой стоит также и вопрос о символизмах Гоголя. Допустим ли он для революционного искусства наших дней или нет?
Известно, что Плеханов относился к символизму отрицательно. В статье о Генрике Ибсене он утверждал, что символизм примесью абстракции всегда обескровливает живой, художественный образ; к символам прибегают тогда, когда не умеют проникнуть в смысл совершающегося общественного развития. Например, Генрику Ибсену символы потребовались для того, чтобы облечь в образ «несотворенный дух», попавший в рабство. В символах Ибсена отражаются бесплодные блуждания его героев. Так полагал Г. В. Плеханов.
Надо, однако, заметить, что символизм символизму рознь, как романтизм романтизму. Есть символизм и романтизм реалистический, революционный, есть символизм и романтизм идеалистический, реакционный. Символизм Гоголя в основе — символизм реалистический, точнее сказать, у него преобладает символический реализм. Такое соединение натурализма с символизмом встречается не только у Гоголя, а у многих гениальных художников.
Что может быть натуральнее «Одиссеи»? Но многое в ней носит и символический характер: Сцилла и Харибда, сирены, листригоны, циклопы и т. д. Разве у Шекспира, при всей его натуральности, не символичен ряд сцен в «Гамлете», в «Макбете» и в других вещах? Не символичны ли Фауст, Мефистофель? Не является ли Медный всадник у Пушкина одним из самых обобщающих символов? Есть символизм натуралистический и есть символизм отвлеченный, идеалистический. Гоголь был реалистом-символистом. У него символ покорен действительности, служит ей, от нее целиком зависит, больше, от нее рождается. А вот о своем символизме Андрей Белый в «Начале века» сделал такое признание: «Становилось все наоборот: действительность оказывалась символом; символ действительностью» (С. 115). Когда действительность оказывается символом и символ действительностью, тогда он, символ, превращается в Лик, в Логос.
Скажут: пусть у Гоголя символ играет подчиненную роль, но для чего он нужен советской литературе? Не лучше ли ей ограничиться натуральностью Гоголя, отбросив его символизм? Но натуральности, кажется, у нас в литературе и без того достаточно. Наша советская литература все еще страдает натуральностью, бытовизмом, описательством. Все согласны с тем, что ей недостает широких и глубоких обобщений, что она часто не выводит за пределы дня. Отчасти поэтому она и отстает от нашей действительности.
Символ является, правда, не единственным, но одним из самых могучих способов обобщать материал и выводить читателя за пределы данной натуральности. Но здесь возражает нам Г. В. Плеханов: это есть — выход за пределы путем абстракции, а можно выходить из действительности иным путем; это бывает в тех случаях, когда действительность нынешнего дня, переживая себя, создает основу для действительности будущего. Г. В. Плеханов не прав: не всякий символ абстрактен, а только такой, который символизирует, например, «несотворенного духа» Ибсена или что-нибудь в этом роде; если же шкатулка символизирует Чичикова, а сам Чичиков символизирует русских приобретателей-плутов, то в этих и подобных символах нет ничего абстрактного, они насквозь натуральны и конкретны.

Александр Константинович (1884–1937) — русский критик, писатель. Редактор журнала «Красная новь» (1921-27). В статьях о советской литературе (сборники «Искусство видеть мир», 1928, «Литературные портреты», т. 1–2, 1928-29) отстаивал реализм, классические традиции; акцентировал роль интуиции в художественном творчестве. Автобиографическая повесть «За живой и мертвой водой» (1927), «Бурса» (1933). Репрессирован; реабилитирован посмертно.В автобиографической книге «За живой и мертвой водой» Александр Константинович Воронский с мягким юмором рассказал о начале своей литературной работы.
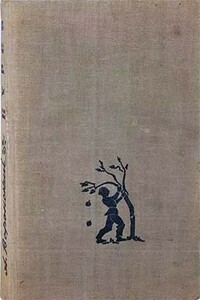
Автобиографический роман А. К. Воронского, названный автором «воспоминаниями с выдумкой». В романе отражены впечатления от учебы в тамбовских духовных учебных заведениях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Я вхожу в зал с прекрасной донной Игнасией, мы делаем там несколько туров, мы встречаем всюду стражу из солдат с примкнутыми к ружьям штыками, которые везде прогуливаются медленными шагами, чтобы быть готовыми задержать тех, кто нарушает мир ссорами. Мы танцуем до десяти часов менуэты и контрдансы, затем идем ужинать, сохраняя оба молчание, она – чтобы не внушить мне, быть может, желание отнестись к ней неуважительно, я – потому что, очень плохо говоря по-испански, не знаю, что ей сказать. После ужина я иду в ложу, где должен повидаться с Пишоной, и вижу там только незнакомые маски.
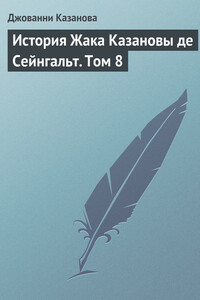
«В десять часов утра, освеженный приятным чувством, что снова оказался в этом Париже, таком несовершенном, но таком пленительном, так что ни один другой город в мире не может соперничать с ним в праве называться Городом, я отправился к моей дорогой м-м д’Юрфэ, которая встретила меня с распростертыми объятиями. Она мне сказала, что молодой д’Аранда чувствует себя хорошо, и что если я хочу, она пригласит его обедать с нами завтра. Я сказал, что мне это будет приятно, затем заверил ее, что операция, в результате которой она должна возродиться в облике мужчины, будет осуществлена тот час же, как Керилинт, один из трех повелителей розенкрейцеров, выйдет из подземелий инквизиции Лиссабона…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

«Что касается причины предписания моему дорогому соучастнику покинуть пределы Республики, это не была игра, потому что Государственные инквизиторы располагали множеством средств, когда хотели полностью очистить государство от игроков. Причина его изгнания, однако, была другая, и чрезвычайная.Знатный венецианец из семьи Гритти по прозвищу Сгомбро (Макрель) влюбился в этого человека противоестественным образом и тот, то ли ради смеха, то ли по склонности, не был к нему жесток. Великий вред состоял в том, что эта монструозная любовь проявлялась публично.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.
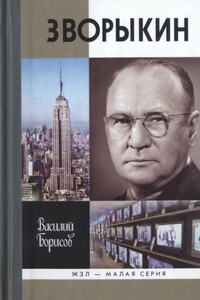
В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.
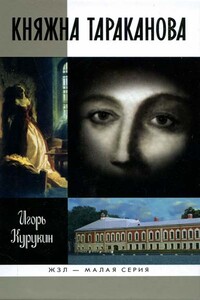
Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.
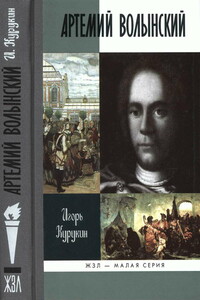
Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.