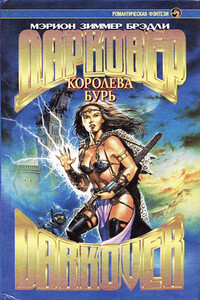Гоголь в русской критике - [225]
Во многих письмах Гоголь прямо иронизирует над «страхами и ужасами России», стоявшей уже у порога катастрофы. «Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях, — пишет он «губернаторше» (А. О. Смирновой), — и не знаю, кто чем болен»… «Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем, — поучает он «близорукого приятеля», мечтающего о каких-то финансовых реформах. — Ты горд, ты самоуверен… Ты думаешь, что все знаешь… Моли бога, чтобы случилась тебе какая-нибудь крупнейшая неприятность (на службе)!..» Она «будет твой истинный избавитель и брат…»[497]
Таким образом необыкновенно яркая фраза Гоголя о том, что «мир в дороге», является, в сущности, недоразумением. Мир не в дороге, мир должен остаться на месте. В дороге только отдельные пиетически вздыхающие души, которые должны, однако, заботиться о том, чтобы в своем движении не нарушить как-нибудь предустановленного совершенства существующего строя. Он убежден даже, что самая тревога, которая больше и живее чувствуется именно в рабской России, указывает не на большие грехи русского строя, а лишь на большее совершенство русской души. Вздохи своих знакомых великосветских пиетистов он принимает за признаки и средства общественного оздоровления. Общее спасение не в отрицании, не в критике, не в его гениальном смехе, не в реформах. Общее спасение в службе существующему строю: «Всяк должен спасать себя в самом сердце государства. На корабле своей должности службы должен всяк из нас выноситься из омута, глядя на Кормщика Небесного. Кто даже и не в службе, должен теперь вступить на службу» (156).
В этой глубокой уверенности Гоголь принимается даже пророчествовать, и в письме к графине С—ой он предсказывает, что еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках.[498]
Гоголь был удивлен действием, какое произвела на всех читателей неожиданная исповедь… Уже из этого болезненного удивления видно, до какой ужасающей степени дошло его отчуждение от истинного движения умов и душ в среде тогдашнего читающего и мыслящего русского общества.
Теперь, по истечении шести десятков лет, мы уже не можем ошибаться в вопросе, что составляло главную причину замеченного и Гоголем настроения и откуда происходило ощущение, что «мир в дороге». Для нас ясно также, куда пролегала эта дорога: первым ее этапом должно было стать освобождение крестьян от рабства, а русского общества — от крепостнических форм жизни; что именно в этой стороне лежала идеальная линия тогдашнего движения — это теперь уже не вопрос взглядов или партий; это объективная историческая истина, которую не смеют уже оспаривать даже наши Собакевичи и Маниловы.
С большей или меньшей ясностью это чувствовали современники Гоголя, и в эту именно сторону обращались все взгляды, у одних со страхом, у других с надеждой. Государство объявило институт рабства одним из своих устоев… Очевидно, идеальная линия пролегала также через отрицание современного государственного строя…
Идеалы, вообще говоря, достижимы лишь в бесконечности, то есть реально не достижимы. Но идеальное постоянно просачивается в нашу жизнь, откладываясь в общественных формах. Его «предчувствие» веет на небосклоне каждого поколения, как облачный столб перед Израилем в пустыне. Только легендарный столб был поставлен извне. В действительности он слагается из неопределенных общих желаний и предчувствий, из новых, только рождающихся мыслей лучших умов, из задушевных стремлений лучших сердец. И все эти атомы общественного творчества невидимо слагаются в идеальный образ, веющий как знамя на умственном горизонте поколений…
Для поколения сороковых годов прошлого века эти идеальные формы были не вполне еще определенны и ясны. Русское общество не имело никаких форм для их проявления. Литература была задавлена гнетом цензуры и по разным причинам облекала свои стремления в туманные метафизические формулы. Положительное определение освободительных идей было невозможно. С тем большею силой они искали отрицательного выражения… Как иудеи в ассирийском плену, — молодая русская интеллигенция заботилась об одном: ни словом, ни намеком не присоединяться к преклонению перед идолами чужой, торжествующей веры. Отрицание становилось началом почти религиозным…
Оно стало господствующим настроением всего живого и мыслящего в России. Известен, между прочим, такой факт из биографии В. Г. Белинского. Запутавшись в гегелевской философии, он принял формулу о «разумности действительного». Под «действительным» по этой терминологии разумелось все, что веками стихийных процессов вырастало из почвы, слагаясь коллективным разумом народов как бы без вмешательства чисто рациональных процессов и критики. Перед силой этой «действительности» все умствования отдельных людей и протесты отдельных совестей являются детски легкомысленными и преступными… С этой точки зрения республика Северо-Американских Штатов, с ее избираемым президентом — есть «призрак». Только монархия, возникшая в тьме стихийно-исторических процессов, — есть реальная личность. «Образ государя есть личность государства», и подданный не может служить отечеству иначе, как служа государю. Само же государство «не имеет причины в нужде и пользе людей: оно есть самоцель, в самом себе находящая причину».

Во второй том вошли роман «Пролог», написанный Н. Г. Чернышевским в сибирской ссылке в 1864 году и пьеса-аллегория «Мастерица варить кашу», написанная в период пребывания в Александровском заводе.http://ruslit.traumlibrary.net.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века.

«Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для деятельности пассивные добродетели никуда не годятся», – писал Н.Г. Чернышевский. Один из самых ярких публицистов в истории России, автор знаменитого романа «Что делать?» Чернышевский много размышлял о «привычках и обстоятельствах» российской жизни, об основных чертах русской нации.
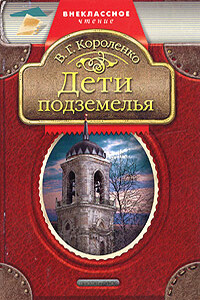
В своей повести «Дети подземелья» известный русский писатель В.Г.Короленко (1853-1921) затрагивает вечные темы дружбы, любви, добра, заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой жизни, полной лишений.Книга адресуется детям младшего и среднего школьного возраста.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
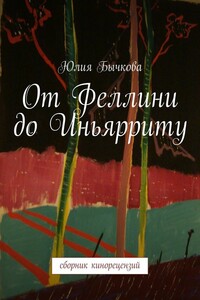
В книге собраны кинорецензии к более, чем шестидесяти фильмам – Бергмана, Феллини, Кустурицы, Джармуша, Финчера, Иньярриту, Ромма, Кончаловского и других известных мастеров кино.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».
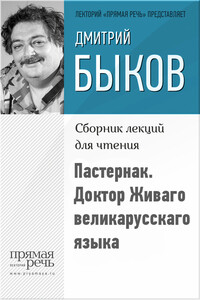
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.