Годы оккупации - [25]
Меняются роль и задачи скепсиса. Он подталкивает ход диалектических процессов в их героической фазе и тормозит их после ее завершения под личиной taedium vitae(Отвращение к жизни, пресыщенность (лат.).) — явления, распространяющегося в мирное время золотого века. Сначала скепсис ухватывается за модификации генерального плана, оставаясь на его ковре, в рамках господствующих банальностей. Смертельные враги даже не подозревают, до чего сходны их язык, их символика. Они схожи между собой как зеркальные отражения, как поддерживающие друг друга арки. Непримиримость возрастает вместе с тонкостью расхождений, как это было на великих церковных соборах, где спор шел о богоравенстве или богоподобии.
Затем скепсис начинает подвергать план тотальному сомнению, доходя до глубочайшего нигилизма. Он тоже входит в поставленную задачу. И наконец совершается переворот: сомнение оборачивается верой, прикрепившись к блеснувшим над горизонтом новым образам. Но что именно придет «извне», не поддается предсказанию.
Это движение происходит волнами. В определенный момент план достигает своей кульминации, причем в духовном аспекте раньше, чем в реальном; силовая и пространственная экспансия, энергичное движение масс значительно запаздывают по сравнению с первоначальным толчком. Это можно наблюдать повсеместно в мире зоологии, истории, теологии.
Не противоречит этому и то, что движение одновременно происходит по спирали; критика; наблюдатель видит его с другой позиции, чем действующий участник, и в результате истолковывает его иначе. Всякая сила, приближающаяся к своему закату, несет в себе зарю новой, реализует ее в момент своей гибели как матрицу, как питательную среду. В этом смысле конец всегда эпизодичен, он даже необходим, так как освобождает пространство. Мир тесен, и история пишется не в виде книги, а на одном листе, на котором просвечивают прежние тексты, вплоть до самого первого. В абсолюте существует только массивная субстанция, которая дает излучение во времени, там нет ни закатов, ни восходов, как у солнца, которое не заходит и не восходит. Есть только превращения, смерти нет.
Вероятно, метафизический потенциал мира труда сильнее, чем нам это представляется сегодня. Мы видим гусеницу, неподвижную куколку, а не бабочку. Мы видим движение, но не видим покоя, который управляет его законами. На высших витках спирали откроется скрытая необходимость. Жертвы были сильнее, непреоборимее, чем думали те, кто жертвовал собой: они были так сильны, как они верили и мечтали. Физические формулы, социальные и экономические теории, обнаруживая свою сущность, оказываются средствами, мотивами для одухотворения мира. Временные постройки сносятся; на сцену выходят санкционирующие силы. Искусство, архитектура, философемы могут обрести новую достоверность лишь тогда, когда осознается неподвижный центр покоя; их неудовлетворительность в условиях движения принадлежит к числу благоприятных примет.
К числу примет относятся также и настроения близкого конца. Они нарастают по мере развития кризиса и достигают апокалиптических масштабов во время мировых кризисов. «Подобное повторяется в каждое тысячелетие», — сказал мне однажды в Норвегии Кельзус.[68] Для стиля нашего времени характерно, что эти настроения конца ограничены тем, что связано с техникой. Однако она лишь иллюзорный предлог; техника не несет нам ни погибели, ни спасительного блага. Тут действуют причины посильнее. О подъеме и упадке нельзя судить с эмпирической точки зрения. Здесь спорят между собой поверхностный оптимизм и всесильный страх.
Ценность настроений конца и гибели, как и во времена пророков, лежит в плоскости высшей педагогики; она заключается в необходимости направить свой взгляд в иную сторону, искать иной помощи, к чему побуждает сознание того, что нам не по силам справиться с великим испытанием. Эти настроения заставляют задаться вопросом, насколько тщательно, умно, ответственно наш бренный план повторяет план мироздания, и уводят в те сферы, где простое воление и простое знание оказываются недостаточны.
Иезекииль. Видение, описанное в первой главе, носит кентаврический характер: взаимопроникновение магического и духовного мира. Нижняя половина но сит магический характер: оцепенелость, близость зверя и дивных каменьев, магнетизма, наглядности. Верхняя половина достигает горных высот.
Магический характер носят также операции четвертой и пятой глав: геомантические приготовления к осаде Иерусалима, в особенности сожжение и упрятывание волос, на которое то и дело натыкаешься при чтении.
В этом отношениии Иезекииль принадлежит к гораздо более древнему слою, чем Исайя и Иеремия, то же самое и в отношении его наклонности к обрядовости и законоблюстительству в духе книги Левит. Отсюда, возможно, открывается доступ для прикосновения к глубинам древней Месопотамии.
Кентаврический характер заключается в том, что он из мира магии дотягивается до сфер более высоких и свободных. Дуализм изначального откровения проходит через весь текст этого пророка и проливает свет на его позицию, изучение которой не менее важно, чем изучение позиции Исайи и Иеремии. У всех троих в центре внимания находится катастрофа, которая у Исайи воспринимается в основном как стихийная, у Иеремии же как политическая. Иезекииль охватывает магические явления, которые сопровождают эту катастрофу и с которыми мы вновь сталкивались в нынешние годы под современным покровом технических форм и понятий, так как техника, словно подъемник, непрерывно выносит наверх многое из того, что относится к древнейшим пластам.

Эта книга при ее первом появлении в 1951 году была понята как программный труд революционного консерватизма, или также как «сборник для духовно-политических партизан». Наряду с рабочим и неизвестным солдатом Юнгер представил тут третий модельный вид, партизана, который в отличие от обоих других принадлежит к «здесь и сейчас». Лес — это место сопротивления, где новые формы свободы используются против новых форм власти. Под понятием «ушедшего в лес», «партизана» Юнгер принимает старое исландское слово, означавшее человека, объявленного вне закона, который демонстрирует свою волю для самоутверждения своими силами: «Это считалось честным и это так еще сегодня, вопреки всем банальностям».

«Стеклянные пчелы» (1957) – пожалуй, самый необычный роман Юнгера, написанный на стыке жанров утопии и антиутопии. Общество технологического прогресса и торжество искусственного интеллекта, роботы, заменяющие человека на производстве, развитие виртуальной реальности и комфортное существование. За это «благополучие» людям приходится платить одиночеством и утратой личной свободы и неподконтрольности. Таков мир, в котором живет герой романа – отставной ротмистр Рихард, пытающийся получить работу на фабрике по производству наделенных интеллектом роботов-лилипутов некоего Дзаппарони – изощренного любителя экспериментов, желающего превзойти главного творца – природу. Быть может, человечество сбилось с пути и совершенство технологий лишь кажущееся благо?

Из предисловия Э. Юнгера к 1-му изданию «В стальных грозах»: «Цель этой книги – дать читателю точную картину тех переживаний, которые пехотинец – стрелок и командир – испытывает, находясь в знаменитом полку, и тех мыслей, которые при этом посещают его. Книга возникла из дневниковых записей, отлитых в форме воспоминаний. Я старался записывать непосредственные впечатления, ибо заметил, как быстро они стираются в памяти, по прошествии нескольких дней, принимая уже совершенно иную окраску. Я потратил немало сил, чтобы исписать пачку записных книжек… и не жалею об этом.

Первый перевод на русский язык дневника 1939—1940 годов «Сады и дороги» немецкого писателя и философа Эрнста Юнгера (1895—1998). Этой книгой открывается секстет его дневников времен Второй мировой войны под общим названием «Излучения» («Strahlungen»). Вышедший в 1942 году, в один год с немецким изданием, французский перевод «Садов и дорог» во многом определил европейскую славу Юнгера как одного из самых выдающихся стилистов XX века.
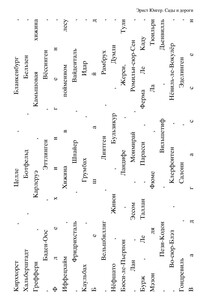
Дневниковые записи 1939–1940 годов, собранные их автором – немецким писателем и философом Эрнстом Юнгером (1895–1998) – в книгу «Сады и дороги», открывают секстет его дневников времен Второй мировой войны, известный под общим названием «Излучения» («Strahlungen»). Французский перевод «Садов и дорог», вышедший в 1942 году, в один год с немецким изданием, во многом определил европейскую славу Юнгера как одного из выдающихся стилистов XX века. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
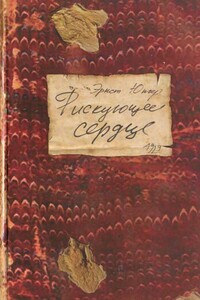
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
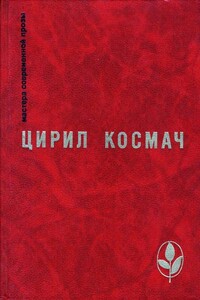
Цирил Космач (1910–1980) — один из выдающихся прозаиков современной Югославии. Творчество писателя связано с судьбой его родины, Словении.Новеллы Ц. Космача написаны то с горечью, то с юмором, но всегда с любовью и с верой в творческое начало народа — неиссякаемый источник добра и красоты.
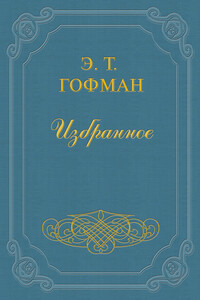
«В те времена, когда в приветливом и живописном городке Бамберге, по пословице, жилось припеваючи, то есть когда он управлялся архиепископским жезлом, стало быть, в конце XVIII столетия, проживал человек бюргерского звания, о котором можно сказать, что он был во всех отношениях редкий и превосходный человек.Его звали Иоганн Вахт, и был он плотник…».

Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852–1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко («Пан Граба», 1869; «Марта», 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.В двухтомник вошли романы «Над Неманом», «Миер Эзофович» (первый том); повести «Ведьма», «Хам», «Bene nati», рассказы «В голодный год», «Четырнадцатая часть», «Дай цветочек!», «Эхо», «Прерванная идиллия» (второй том).

Книга представляет российскому читателю одного из крупнейших прозаиков современной Испании, писавшего на галисийском и испанском языках. В творчестве этого самобытного автора, предшественника «магического реализма», вымысел и фантазия, навеянные фольклором Галисии, сочетаются с интересом к современной действительности страны.Художник Е. Шешенин.

Автобиографический роман, который критики единодушно сравнивают с "Серебряным голубем" Андрея Белого. Роман-хроника? Роман-сказка? Роман — предвестие магического реализма? Все просто: растет мальчик, и вполне повседневные события жизни облекаются его богатым воображением в сказочную форму. Обычные истории становятся странными, детские приключения приобретают истинно легендарный размах — и вкус юмора снова и снова довлеет над сказочным антуражем увлекательного романа.
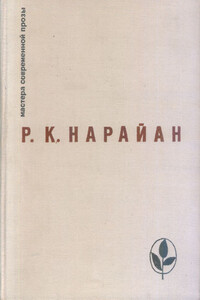
Рассказы Нарайана поражают широтой охвата, легкостью, с которой писатель переходит от одной интонации к другой. Самые различные чувства — смех и мягкая ирония, сдержанный гнев и грусть о незадавшихся судьбах своих героев — звучат в авторском голосе, придавая ему глубоко индивидуальный характер.