Глаз разума - [5]
То, что в последних абзацах я употреблял слова “мы” и “наше”, а вы спокойно с этим соглашались, показывает, что мы не воспринимаем серьезно проблему нашего разума — по меньшей мере, в приложении к себе самим и человеческим существам, с которыми мы обычно себя ассоциируем. Заманчиво было бы заключить, что на вопрос о воображаемом роботе (или любом “проблематичном” существе) можно ответить при помощи прямого наблюдения. Некоторые исследователи думают, что когда у нас в распоряжении будут более полные теории организации мозга и его роли в контролировании поведения, мы сможем использовать их для различения между разумными и неразумными существами. Иными словами, они считают, что факты, получаемые нами “изнутри”, можно свести к фактам, которые другие люди могут наблюдать снаружи. Достаточное количество этих наблюдений с точностью укажет, обладает ли сознанием данное существо. Взгляните, например, как нейрофизиолог Е. Р. Джон недавно попытался определить сознание в объективных терминах:
…процесс, в ходе которого информация о множественных индивидуальных модальностях восприятия и ощущения сводится в единое многоплановое представление о состоянии системы и ее окружения и интегрируется с информацией о воспоминаниях и потребностях организма, порождая эмоциональные реакции и программы поведения, способствующие приспособлению организма к его окружению.
Задачей новой науки, занимающейся обработкой нейронной информации, является определение того, что этот гипотетический внутренний процесс происходит в определенном организме. Представьте себе, что эта, по-видимому, нелегкая, но эмпирически выполнимая задача решена по отношению к некому существу, и, таким образом, оно признано разумным. Если мы правильно поняли наш первоначальный план, то теперь нам больше не в чем сомневаться. Человек, все еще воздерживающийся от принятия этого решения, был бы похож на скептика, который, осмотрев работающий автомобильный мотор и получив детальные объяснения его механики, спросил бы: “Скажите, а это действительно двигатель внутреннего сгорания? Не могли ли мы ошибиться?”
Любое научное описание феномена сознания должно было совершить слегка доктринерский шаг, требуя, чтобы это явление рассматривалось как объективно доступное; тем не менее, можно усомниться в том, что когда этот шаг сделан, все таинственное останется позади. Прежде чем отбросить все сомнения, приписав их капризу романтиков, давайте взглянем на революцию, произошедшую недавно в истории науки о разуме, революцию, повлекшую за собой тревожные последствия.
Джон Локк и многие последовавшие за ним мыслители считали, что основной определяющей разума является сознание — и в особенности, самосознание. Разум, по их мнению, был прозрачен сам для себя; ничто не могло укрыться от внутреннего взора. Чтобы понять, что происходит в собственном мозгу, человеку достаточно лишь “посмотреть”. Границы, очерченные подобной интроспекцией, считались подлинными границами разума. Понятие бессознательного либо не рассматривалось вообще, либо отметалось, как бессвязная, противоречивая чепуха. Например, Локк не знал, как разрешить следующую серьезную проблему: как могут воспоминания человека быть постоянно у него в мозгу, хотя они не всегда “присутствуют в сознании”. Влияние подобных взглядов было настолько велико, что, когда Фрейд впервые высказал предположение о существовании бессознательных мыслительных процессов, его идея была встречена почти единодушным отпором и непониманием. Утверждение о том, что могут существовать бессознательные верования и желания, бессознательное чувство ненависти и даже бессознательные планы самозащиты и мести, оскорбляло здравый смысл и казалось противоречивым. Но постепенно у Фрейда появились сторонники. Теоретики стали обдумывать эту “концептуальную невозможность” все серьезнее, как только заметили, что она позволяет им объяснить до сих пор необъяснимые случаи психопатологического поведения.
Новые взгляды поддерживались при помощи своеобразного “костыля” — смягченной версии кредо Локка, допускавшей, что все эти “бессознательные” мысли, желания и планы принадлежали другим личностям в психике человека. Так же, как я могу держать мои планы в секрете от вас, мое ид (термин, обозначающий подсознание) может скрывать свои планы от моего эго. Разделив субъекта на многих субъектов, можно было защитить аксиому о том, что любое ментальное состояние должно быть чьим-нибудь сознательным состоянием и объяснить недоступность некоторых из этих состояний для их “хозяина” тем, что у них есть другие внутренние “хозяева”. Этот ловкий ход был надежно замаскирован профессиональным жаргоном с тем, чтобы никто не задавал трудных вопросов, — например, как ощущает себя супер эго, сверх-я.
Фрейд раздвинул границы мыслимого. Это вызвало революцию в клинической психологии. Вместе с тем, это расчистило путь последующим достижениям “когнитивной” экспериментальной психологии. Сегодня мы, не моргнув глазом, соглашаемся с тем, что сложнейшая проверка гипотез, поиски в памяти, выводы — одним словом, обработка информации — происходит у нас в мозгу постоянно, хотя мы об этом и не подозреваем. Речь здесь идет не о подавленной бессознательной активности, которую описал Фрейд, а о рутинной мыслительной деятельности, которая, по определению, находится за пределами сознательного уровня. Фрейд утверждал, что его теории и клинические наблюдения дают ему право не верить пациентам, когда те искренно уверяют, что “ничего подобного не думали”. Таким же образом когнитивный психолог опирается на экспериментальные данные, модели и теории, чтобы доказать, что у людей в голове постоянно происходят сложнейшие мыслительные процессы, о которых они и не подозревают. Итак, получается, что разум доступен сторонним наблюдателям. Более того, некоторые мыслительные процессы доступны сторонним наблюдателям в большей степени, чем самим “хозяевам” этого разума!
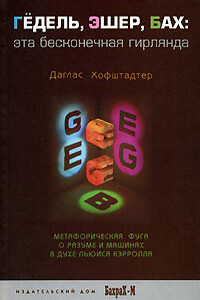
Не часто приходится держать в руках книгу, которая открывает новые миры, в которой сочетаются глубина мысли и блестящая языковая игра; книгу, которой удалось совместить ничем на первый взгляд не связанные сложные области знания.Выдающийся американский ученый изобретает остроумные диалоги, обращается к знаменитым парадоксам пространства и времени, находит параллели между картинами Эшера, музыкой Баха и такими разными дисциплинами, как физика, математика, логика, биология, нейрофизиология, психология и дзен-буддизм.Автор размышляет над одной из величайших тайн современной науки: каким образом человеческое мышление пытается постичь самое себя.
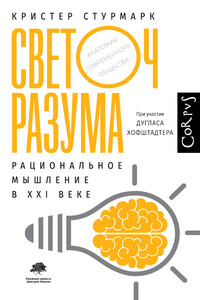
Современный мир располагает огромным количеством идей, концепций и систем взглядов, которые предлагают человеку то или иное объяснение реальности. Теории заговоров, альтернативная медицина, духовные практики, астрология, эзотерика, несмотря на развитие науки, не теряют популярности. Но что они на самом деле могут объяснить? И почему многие люди так легко готовы поверить в них? В этой книге шведский просветитель Кристер Стурмарк и американский физик Дуглас Хофштадтер рассказывают, как устроено научное знание, объясняют, почему наш мозг так легко отказывается от рационального мышления, и дают простые инструменты, которые помогут противостоять манипуляциям и заблуждениям.

Верно ли, что речь, обращенная к другому – рассказ о себе, исповедь, обещание и прощение, – может преобразить человека? Как и когда из безличных социальных и смысловых структур возникает субъект, способный взять на себя ответственность? Можно ли представить себе радикальную трансформацию субъекта не только перед лицом другого человека, но и перед лицом искусства или в работе философа? Книга А. В. Ямпольской «Искусство феноменологии» приглашает читателей к диалогу с мыслителями, художниками и поэтами – Деррида, Кандинским, Арендт, Шкловским, Рикером, Данте – и конечно же с Эдмундом Гуссерлем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».