«Гибель Запада» и другие мемы. Из истории расхожих идей и словесных формул - [2]
[Театральной игре чужда печальная симметрия / И холодный циркуль геометрии][5].
Конечно, доступ к интернету лишил бы Лосева и Райса удовольствия от чтения Ирвинга, но зато сэкономил бы им много времени и, главное, быстро принес бы искомый результат. Поскольку в моей практике подобные истории случались неоднократно, я думаю все-таки, что работа с поисковиками имеет больше плюсов, чем минусов.
Для настоящей книги я написал четыре новые заметки («Поскребите русского и найдете татарина», «Праздник жизни», «Зависть – сестра соревнования», «Азиатская роскошь») и полностью переработал «Северную Семирамиду», ранее доступную только в интернете, подправив и слегка дополнив все остальное[6].
В работе с французскими источниками и переводами мне много раз помогала В. А. Мильчина, которой я безмерно благодарен за консультации. Если какие-то опечатки и неточности остались неисправленными, то вся вина за это лежит на мне. Кроме того, я хочу сердечно поблагодарить Б. А. Каца, Г. А. Левинтона, А. Л. Осповата, К. А. Осповата, Н. Г. Охотина, Р. Д. Тименчика, А. М. Хазанова, чьими знаниями и советами я неоднократно пользовался, Андрея Курилкина, позвавшего меня в замечательное «Новое издательство», и Софью Боленко, составившую именной указатель книги. Без моего первого и главного читателя, Галины Лапиной, книга не была бы написана. Галя, спасибо за все!
«Гибель Запада»: к истории одного стойкого верования
Россия по своему положению, географич<ескому>, политич<ескому> etc., есть судилище, приказ Европы. – Nous sommes les grands jugeurs. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны…
– А.С. Пушкин
Как всем известно, русская культура изобилует всевозможными эсхатологическими пророчествами и предсказаниями, апокалиптическими проекциями, плачами о погибели мира или Земли Русской и т.п. В этом непрерывно пополняемом эсхатологическом дискурсе выделяется немалая группа текстов, которые – вопреки основному апокалиптическому канону – возвещают скорый, неминуемый конец не всемирной истории и не своему народу или государству, а чужой культуре – возвещают гибель Запада. Вот уже на протяжении почти двух веков многие русские интеллигенты, которым, говоря словами обращенной к ним инвективы Валерия Брюсова (1919), всегда «были любы трагизм и гибель / Иль ужас нового потопа», гадают, «в огне ль, на дыбе ль / Погибнет старая Европа»[7]. Кто только не пророчил европейскому миру неминуемую, скорую, страшную погибель? Назову лишь самые громкие имена XIX – начала ХХ века: Иван Киреевский, Хомяков, Лермонтов, Шевырев, Тютчев, Одоевский, Достоевский, Данилевский, Герцен, Леонтьев, Розанов, Мережковский, Брюсов, Андрей Белый, Блок. Понятно, что все эти поэтические прорицания, публицистические иеремиады и псевдонаучные прогнозы были производными от исходного противопоставления России Западу как враждебных друг другу историко-культурных «организмов» – от пресуппозиции, где «своему» приписывались положительные, а «чужому» отрицательные признаки. Дряхлый, больной, загнивающий, материалистический, безбожный, буржуазно-индивидуалистический Запад должен погибнуть, чтобы освободить место для России – молодого, здорового, расцветающего, одухотворенного и сплоченного глубокой христианской верой народа, которому суждено великое историческое будущее.
Впервые мысль о том, что историческая судьба Западной Европы близка к завершению, была высказана молодым Иваном Киреевским в «Обозрении русской словесности 1829 года».
Англия и Германия, – писал он, – находятся теперь на вершине европейского просвещения; но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарелась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною. Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершения равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки да изредка блестит холодный, блуждающий огонек[8].
Историко-культурная концепция Киреевского, как показал Александр Койре, основывалась на убеждении, что Европа достигла совершенства, и это совершенство есть завершение. <…> Затем может последовать только стагнация, предшествующая упадку и неизбежному загниванию, – эти явления присущи всему живому. Чтобы продвинуться далее, нужны новые силы, требуется молодой организм. Но во всем мире лишь Россия способна нести знамя цивилизации, выпадающее из ослабевших рук западных народов; сюда сместится центр, живое сердце, которое даст ей новую кровь и вдохнет новую жизнь. По отношению к Западу Россия является наследницей, на которой сходятся все надежды семейства. Она получит все богатства, накопленные веками труда, весь опыт своих предков[9].
Вслед за Киреевским, в 1833–1835 годах похожую концепцию разрабатывает В.Ф. Одоевский в очерке, который впоследствии составит эпилог «Русских ночей». На «старом Западе», констатирует он, вырождаются наука, искусство и религиозное чувство, что свидетельствует о неминуемом конце европейской цивилизации:
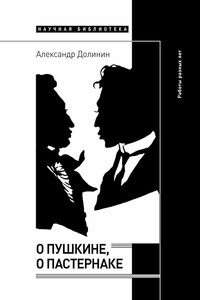
Изучению поэтических миров Александра Пушкина и Бориса Пастернака в разное время посвящали свои силы лучшие отечественные литературоведы. В их ряду видное место занимает Александр Алексеевич Долинин, известный филолог, почетный профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, автор многочисленных трудов по русской, английской и американской словесности. В этот сборник вошли его работы о двух великих поэтах, объединенные общими исследовательскими установками. В каждой из статей автор пытается разгадать определенную загадку, лежащую в поле поэтики или истории литературы, разрешить кажущиеся противоречия и неясные аллюзии в тексте, установить его контексты и подтексты.

В настоящей книге рассматривается объединенное пространство фантастической литературы и футурологических изысканий с целью поиска в литературных произведениях ростков, локусов формирующегося Будущего. Можно смело предположить, что одной из мер качества литературного произведения в таком видении становится его инновационность, способность привнести новое в традиционное литературное пространство. Значимыми оказываются литературные тексты, из которых прорастает Будущее, его реалии, герои, накал страстей.

В книгу известного российского ученого Т. П. Григорьевой вошли ее работы разных лет в обновленном виде. Автор ставит перед собой задачу показать, как соотносятся западное и восточное знание, опиравшиеся на разные мировоззренческие постулаты.Причина успеха китайской цивилизации – в ее опоре на традицию, насчитывающую не одно тысячелетие. В ее основе лежит И цзин – «Книга Перемен». Мудрость древних позволила избежать односторонности, признать путем к Гармонии Равновесие, а не борьбу.В книге поднимаются вопросы о соотношении нового типа западной науки – синергетики – и важнейшего понятия восточной традиции – Дао; о причинах взлета китайской цивилизации и отсутствия этого взлета в России; о понятии подлинного Всечеловека и западном антропоцентризме…

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

Историки Доминик и Жанин Сурдель выделяют в исламской цивилизации классический период, начинающийся с 622 г. — со времени проповеди Мухаммада и завершающийся XIII веком, эпохой распада великой исламской империи, раскинувшейся некогда от Испании до Индии с запада на восток и от черной Африки до Черного и Каспийского морей с юга на север. Эта великая империя рассматривается авторами книги, во-первых, в ее политическом, религиозно-социальном, экономическом и культурном аспектах, во-вторых, в аспекте ее внутреннего единства и многообразия и, в-третьих, как цивилизация глубоко своеобразная, противостоящая цивилизации Запада, но связанная с ней общим историко-культурным контекстом.Книга рассчитана на специалистов и широкий круг читателей.

Увлекательный экскурс известного ученого Эдуарда Паркера в историю кочевых племен Восточной Азии познакомит вас с происхождением, формированием и эволюцией конгломерата, сложившегося в результате сложных и противоречивых исторических процессов. В этой уникальной книге повествуется о быте, традициях и социальной структуре татарского народа, прослеживаются династические связи правящей верхушки, рассказывается о кровопролитных сражениях и создании кочевых империй.
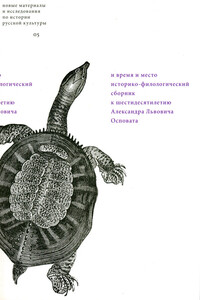
Историко-филологический сборник «И время и место» выходит в свет к шестидесятилетию профессора Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) Александра Львовича Осповата. Статьи друзей, коллег и учеников юбиляра посвящены научным сюжетам, вдохновенно и конструктивно разрабатываемым А.Л. Осповатом, – взаимодействию и взаимовлиянию литературы и различных «ближайших рядов» (идеология, политика, бытовое поведение, визуальные искусства, музыка и др.), диалогу национальных культур, творческой истории литературных памятников, интертекстуальным связям.
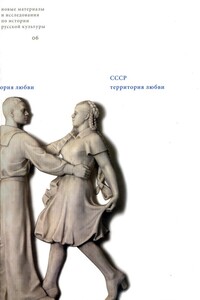
Сборник «СССР: Территория любви» составлен по материалам международной конференции «Любовь, протест и пропаганда в советской культуре» (ноябрь 2004 года), организованной Отделением славистики Университета г. Констанц (Германия). В центре внимания авторов статей — тексты и изображения, декларации и табу, стереотипы и инновации, позволяющие судить о дискурсивных и медиальных особенностях советской культуры в представлении о любви и интимности.
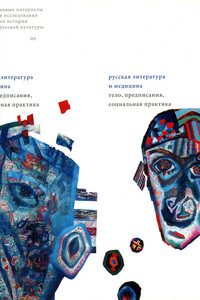
Сборник составлен по материалам международной конференции «Медицина и русская литература: эстетика, этика, тело» (9–11 октября 2003 г.), организованной отделением славистики Констанцского университета (Германия) и посвященной сосуществованию художественной литературы и медицины — роли литературной риторики в репрезентации медицинской тематики и влиянию медицины на риторические и текстуальные техники художественного творчества. В центре внимания авторов статей — репрезентация медицинского знания в русской литературе XVIII–XX веков, риторика и нарративные структуры медицинского дискурса; эстетические проблемы телесной девиантности и канона; коммуникативные модели и формы медико-литературной «терапии», тематизированной в хрестоматийных и нехрестоматийных текстах о взаимоотношениях врачей и «читающих» пациентов.

Сборник «Религиозные практики в современной России» включает в себя работы российских и французских религиоведов, антропологов, социологов и этнографов, посвященные различным формам повседневного поведения жителей современной России в связи с их религиозными верованиями и религиозным самосознанием. Авторов статей, рассматривающих быт различных религиозных общин и функционирование различных религиозных культов, объединяет внимание не к декларативной, а к практической стороне религии, которое позволяет им нарисовать реальную картину религиозной жизни постсоветской России.
