Гибель всерьез - [66]
Нет, мне мерещатся убийства страшнее и дольше самой войны, но тихою сапой, когда все средства хороши, выбирай на любой вкус, смерть обыденная и изощренная, для которой ни правил, ни законов, обойдется без электрического стула и без эшафота, удавит, оглушит, раздавит и так, но прежде вымотает душу, проникнет в мозг, задушит в человеке человека, ей страх милей, чем плеть, но не побрезгует и плетью, унизить ей отрада, почует слабость и согнет, заставит за руки держать под пыткою родного брата и не прикончит жертву до тех пор, пока не исчерпает весь свой арсенал: боль, голод и глумленья. Смерть во всех обличьях: мгновенная, как от пули, и мучительная агония, такая долгая казнь, что все уже успели позабыть и приговор, И преступленье — если оно и вправду было, — забыть, из-за чего льется кровь, за что один из наших братьев лишился имени и даже номера и обращен в скотину, с тоскливым ревом ждущую на бойне последнего удара.
Я видел смерть, подобную тайной страсти; всемогущую, как безотчетная стихия, — стихия, захватившая целый народ, которая уже не умещается в темных уголках человеческих душ. Смерть, в которую проваливаешься, как в западню, не за какую-то провинность, а просто потому, что ненароком наступишь ногой. И вот ты падаешь, и разверзаются бездны, бесплодные пустыни жизни, глубокие колодцы бедствий, бескрайние нивы страданий. Мир забытья, смятения и боли. Кто и когда установил его жестокие законы, неизвестно. Но все безропотны и знают, что касаться их столь же опасно, как трогать голыми руками невинный с виду проводок, по которому проходит невидимый глазу смертоносный ток. И вот нелепый парадокс: все время, пока смерть точит и гложет человека, он думает только о жизни и мнит, что, уплатив очередную дань, получит отсрочку. Я вижу страшную империю смерти, которая неумолимо губит подданных, построивших ее собственными руками, и это у них именуется жизнью.
Я вижу смерть, дерзнувшую подменить собою жизнь. И потому неумолимую: ведь если жизнь равноценна смерти, надежды на спасенье нет. Смерть, против которой никто Не восстанет, никто не сплотится, против которой и голоса немыслимо поднять, которую никто не призовет к ответу, нет на нее суда, нет Вены. Смерть, убивающая во имя того, что мне дорого, во что я верю, за что готов погибнуть. Хотя в конечном счете у всех смертей одно лицо; когда его являют уцелевшим, те ужасаются, не постигают, не верят, стонут, мечутся, рвут на себе одежду, так длится день, и два, и три, а после все возвращается на круги своя, и каждый живет, как жил, пока не грянет новая смерть, моя или ваша — не знаю, что страшней! Я вижу смерть столь безобразную, что ей самой покажется нелепым искать себе каких-то оправданий.
«В чем дело, что с тобой стряслось? — спросила Эхо. — Ты на себя не похож. И весь горячий! Уж не простыл ли? Ну, конечно. Конечно, простыл! Да и немудрено: просидеть целый день за работой в лесу, в такую сырость, в такой холод. Ты мне напоминаешь таитян: когда у них жар, они лезут в холодную воду… И лучше выдумать не мог…[66]»
— Какие таитяне… ты воображаешь, что мы где-то за городом? Да нет же, Эхо, все происходит здесь, у нас дома, в Париже, нет никакого леса, никакой простуды, посмотри: все та же обивка на стенах, шкафы, два столика с мраморным верхом в изголовьях кроватей.
«Ну вот. Не даст сказать. Да, мы не в городе. Ведь я не спорю, когда ты говоришь про Копенгаген. Вот дремлет черный пес — что у него на уме, и, как ты думаешь, верит он в Бога? Иногда мне кажется, что верит. Если открыть окно, увидишь первоцвет! Да нет, не открывай, с ума ты, что ли, сошел! Не открывай окно, сейчас безлунная ночь, и нет никаких первоцветов. Просто, если открыть окно, видны первоцветы. Что ты сказал?»
— Я сказал: первоцвет — это ты.
«О чем я? Ах да. Какая разница, в Париже или не в Париже! Ты сам все перепутал: у тебя эта дверь с засовом в копенгагенском замке, не помню уж, как его название, а историки пишут, что их убежище было не в столице. Молчи. Я знаю, что ты скажешь: все это неважно, и читатель все равно не отличит Кристиансборг от какого-то еще другого «борга», и ничего страшного, если ты запутаешься в замках, главное, чтобы он, читатель, не запутался в чувствах героев, и ты, конечно, прав, но как ты его расслышишь? Вот спит черный пес, я уже говорила о нем, — ты слышишь его сны? Может, он заблудился в твоем Копенгагене, может, для него весь мир — эта комната, сад да лесная опушка. Да, знаю, ты скажешь, что именно для удобства читателя — или пса, все равно — ты все совмещаешь и упрощаешь, проделываешь то, что называется синтезом. Так вот, ради этого синтеза и ради этого пса, условимся: когда начинаю говорить я, мы с тобой оказываемся в загородном убежище. И крыша там не медно-бирюзовая, вот слышишь, горлицы воркуют, значит, правда…»
— Ну, что до горлиц, то я и в Париже, у себя в кабинете, частенько слышу их воркованье, шесть звуков в две стопы, четырехсложная с двусложной; должно быть, они из года в год устраивают гнездо на каминной трубе, там удобно: крыша черепичная, а огня, как им известно, никогда не разводят. Однажды пасмурным днем, когда ничто не напоминало о весне, я услышал горлиц и подумал: какое же сегодня число? Было двадцатое марта, и сначала я решил, что птицы поспешили с весенним призывом, но оказалось, что нисколько: я упустил из виду — и не вспомнил, пока не услышал метеосводку, — что шел високосный год и, стало быть, начало весны приходилось ровно на пятнадцать часов этого самого дня…

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
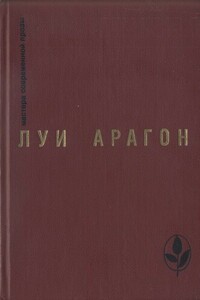
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.
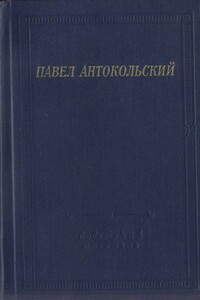
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

