Гибель всерьез - [53]
Может показаться, что я чересчур увлекся рассуждениями о книге, которой не найдешь ни в одной книжной лавке. Но, во-первых, не я повинен в пренебрежительном отношении французских издателей к старой отечественной литературе, а во-вторых, и это главное, надеюсь, мой анализ достаточно ясно показал, что перед реалистом пятнадцатого века стояли те же проблемы, что стоят перед его современным собратом, разница только в том, что в наше время именем собирательного героя, вроде Букетона, пришлось бы обозначить целые империи и народы, а исторические события все равно остались бы узнаваемыми, сколько ни сливай их по два или по три, так что, какую бы сложную систему зеркал и отражений ни изобрел писатель, ему не запутать свое произведение настолько, чтобы никто ни о чем не догадался. О событиях же частной жизни нечего и говорить. Если именем Кристиан — остановимся на этом примере, чтобы не перескакивать с предмета на предмет, — обозначить, по образцу графа Парваншерского, всех любовников Омелы…
— Что-что?! — возмутилась Ингеборг д’Эшер. — Всех любовников… Вы соображаете, что плетете?
— Не мешайте мне развивать мысль, Ингеборг. Вы еще не знаете, к чему я клоню… И вообще, я вовсе не случайно выбрал Жана де Бюэля: его время и то, что недавно пережили мы, весьма сходны, правда, на этот раз захватчиками, от которых пришлось освобождать Францию, были не англичане. Взять хотя бы нелепое начало трагедии, когда Дюнуа и Лаир отошли в 1427 году от стен Монтаржи и французы стали дожидаться, «пока отроки (одним из которых, — говорит Тренган, — был тогда и наш герой) вырастут и достаточно окрепнут для военной службы». И тогда «все надежды устремились к юношам, которые быстро мужали, так что обезлюдевшая страна словно заселялась заново»… Но этих вещей я коснусь в другом месте моей книги, до которого, даст Бог, доберусь, если до тех пор мне не разобьют сердце, пока же мне хотелось только рассказать о зеркале, именуемом романом, и продемонстрировать все, как говорится, цеховые тайны писательского ремесла. Ими в большей или меньшей степени владели наши предшественники, story tellers[54], они передали это искусство и нам, но его недостаточно сегодня, когда границы размыты и уже нет и не может быть романа английского, французского или римского, а время идет с бешеной скоростью, пока пишется роман, люди и мир изменяются настолько, что приходится заботиться не о том, чтобы читатель не узнал «подлинных событий», а о том, чтобы он вообще что-то узнал и что-то понял. Все это требует совсем иных правил обращения с зеркалом, о которых, как мне кажется, и следовало бы условиться заранее.
— Ну, хватит, — сказала Ингеборг. — Что мне до ваших благородных воинов — они давно устарели, а ведь вы, реалисты, сами требуете, чтобы каждая строчка была отмечена печатью современности. Их рыцарский кодекс нисколько не поможет мне разобраться в событиях на Кипре, во Вьетнаме или в Конго, о которых кричат все газеты…
— Не напоминайте мне о Кипре, Ингеборг, а то мы опять собьемся на Отелло и ревность. Тем более что я и без того уже думаю, как бы свести «два-три предмета в один», точнее, не два и не три, а сотни предметов этой мучительной страсти в один, обозначив его именем Парваншер, — или Перваншер, как сегодня называется пресловутая деревушка близ Мортаня, сделав всех ваших любовников голубоглазыми, с глазами цвета перванш — оцените мое великодушие! Что до Вьетнама, может, времена Карла VII и правда не содержат никаких аналогий с тем, что там происходит сейчас, зато обстановка в Конго, где свирепствуют «головорезы»[55], весьма напоминает Францию, отданную на растерзание наемных орд[56], недаром еще чуть ли не за сто лет до рождения Отрока ее называли раем для вояк. Заметьте еще вот что, дорогая: между Белым Королем из Зазеркалья и сиром де Бюэлем есть необыкновенное сходство, которого вы бы не заметили, если бы я вам на него не указал. Они оба собирались написать, что считали нужным и что им хотелось, и обоим не дали спокойно соврать. Является какая-то Алиса, хватается за королевский «кох-и-нор» и делает явным все, что монарх тщательно пытался скрыть. Та же история повторяется с Жаном де Бюэлем: он надевает маску Отрока, старательно сливает по две-три вещи в одну, лишь бы никто ничего не смог узнать, и вдруг Гильом Тренган — чем не Алиса! — выкладывает все как есть: что означает название Кратор, кто такие Букетон и Парваншер, и его «Комментарий» в веках сопутствует роману досточтимого сира, а впрочем, еще неизвестно, кто настоящий сочинитель: может, на самом-то деле все было так, как представлялось Белому Королю, и граф Парваншер был обыкновенным помещиком из деревушки к северу от Беллема…
— Признаться, я не совсем понимаю, зачем вы устраиваете мне экскурсию по Мэну и Орлеану — это, конечно, очень мило с вашей стороны, но с чего вы взяли, что все эти Люки и Краторы, будь они вымышленные или настоящие, хоть сколько-нибудь мне интересны?
— О, просто вы не знаете, что значат эти места для меня. Какие трагические воспоминания у меня с ними связаны. Именно туда, где жил когда-то Жан де Бюэль и его родич и соперник Жиль де Рэ… где к нему, еще недавно зеленым юнцом явившемуся к осажденному Орлеану во главе отряда из двух десятков солдат, пришла слава… туда, в Верне, где сир де Бюэль принял первый бой и потерял ближайших друзей, я прибыл 13 июня 1940 года. Странный, весь в зелени, совершенно безлюдный город; повсюду следы поспешного бегства, впрочем, я помню все как-то смутно и отрывочно: мельканье теней, силуэты башен, нас разместили в каком-то здании с большим двором, с деревянной лестницей, ведущей на чердак, чудесный чердак, где можно было лежать и разглядывать черные балки над головой. Я страшно устал, не столько от долгого марша под палящим солнцем, сколько от гнетущей тревоги: где неприятель, от которого мы бежим? справа или слева? откуда его ждать: с севера или с юга? — и от этого мертвого безмолвия… Там, на чердаке, развалившись на ворохе соломы, я включил приемник, который мне поручили хранить, и поймал, вернее, перехватил важное сообщение… неизвестно кто грозным, хриплым голосом обращался к нам или к кому-то из наших, к каким-то заговорщикам в нашей же армии: «Предупредите своих людей… как только получите сигнал, устраните офицеров»… и сразу следом беззаботные, развеселые песенки… Тогда же мы узнали, что Париж сдан… Мы все трое — или четверо, не помню уж, сколько нас было на этом чердаке, — окаменели и глядели друг на друга расширенными глазами; уже смеркалось, и вдруг приемник заглох — наверно, не мы одни принялись лихорадочно крутить ручки — и весь город провалился в темноту: отключилось электричество. «Эй вы там, поживее. Чего застряли? Скорее! Немцы уже в…» И начался невообразимый поход, какими-то окольными путями. Не помню, где мы спали и спали ли вообще. Однажды утром в лесу, к югу от Сент-Гобюржа, один из моих солдат крикнул приятелю, точно турист на экскурсии, как сейчас слышу этот возглас: «Гляди-ка, сплошные дырки!» Это относилось к ложно-готической колокольне траппистского монастыря в Солиньи, построенной примерно в то время, когда я появился на свет. Парень восхитился каменным кружевом, но его, верно, нисколько не тронуло бы, если бы ему сказали, что задолго до того, как оно было сплетено, тут был монастырь цистерцианцев, где поселился Рансе

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
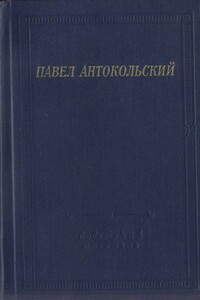
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.
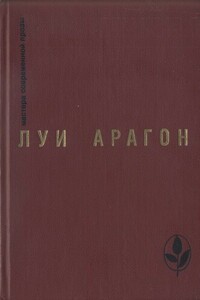
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.


