Гибель всерьез - [110]
«Вы ведь слушали в этом сезоне Каллас в «Норме» или, по-вашему, меня сопровождал в Оперу Антоан? Так вот, если бы я пела так же вдохновенно и обладала таким же даром, вы, ревнивец, непременно сказали бы, что меня вдохновил тот красивый мальчик… да-да, итальянец… поскольку подлинный источник живого чувства вам неизвестен. Но если бы я пела Норму, во мне — в душе, в уме и перед глазами — жило бы одно: оккупация, трагедия женщины, ставшей жертвой любви врага и готовой убить плод преступления — своих детей… разве о галлах и римлянах я думала бы? И настоящие писатели точно так же. Я не имею в виду вас, у вас романы — этакие длинные побасенки… я говорю о тех, у кого слово становится плотью».
Ей меня не уязвить. Я знаю, что писатель я средний, не хватает фантазии, мощи. Есть, пожалуй, поэтичность, владение словом. Мои романы — это в первую очередь язык. И критики, нравится им это или нет, должны исходить из этого. Так почему же Омеле, чье пение материально, чье пение — воплощенная душа, не чувствовать их эфемерность? Но пример, который она выбрала в подтверждение своей мысли, возбуждает во мне подозрения.
«Взять хотя бы ту писательницу, — говорит она, — она что-то рассказывает, мы следим за сюжетом, и вдруг он прерывается побочной темой, чужим сном, с которым мы, читатели, уже знакомы, потому что он уже описан, и благодаря побочной теме проясняется основная…»
Что говорит Омела, о ком? Я, должно быть, недослышал, заснул, упустил какую-то фразу, имя… а зеркало успело повернуться. В последнее время я сделался глуховат, и глухота у меня странная, я бы сказал, избирательная. Пропускаю сказанное мимо ушей, а потом пытаюсь сам восстановить смысл, но моя выдумка, зачастую не имеет ничего общего с тем, что я упустил. Чье отражение протягивает мне мадам д’Эшер? Перебираю названия романов… Нет, я ошибаюсь. Это не… нет-нет, не может быть. Почему вдруг зеркало повернулось для Ингеборг в ту сторону именно теперь, после того как в «Карнавале» Антоан… но я не давал Омеле читать «Карнавал»? Меня не оставляет ощущение близящейся катастрофы, я все время боюсь коснуться чего-то, что произошло без моего ведома и что решает все.
«Мне кажется, постоянно использует побочную тему в своих романах, — продолжала Омела, — воспроизводя тот самый механизм, который действует и в актерах, помогая нам играть самые разные роли…»
— Я не понимаю вас, Ингеборг, вы о чем?
Прибегнув к уловке глухих, жалко притворяющихся, будто они не дослышали, тогда как они просто-напросто многого не слышали вовсе, я попытался вынудить ее произнести имя, а ей показалось, что я прошу разъяснить мне существо дела.
«Мы с вообще похожи, — сказала Омела. — Недавно она заходила ко мне. Мы знаем друг друга давным-давно, но никогда не дружили. А мне иногда хочется сесть вместе с ней и сравнить опыт ее и моей жизни. В ее романах я узнаю себя, когда героиня схожа с ней, но не является ее автопортретом. Например, Элизабет из «Коня белого», которую пятнадцать лет спустя мы встречаем в «Свидании чужеземцев»… может быть, причина проста — скандинавский характер, но мне почему-то кажется, она писала Элизабет, словно медленно вглядываясь в ручное зеркальце, которое лежало на туалетном столике, рядом с лаком для ногтей и десятком притираний для лица… отражение одно, но каждая из нас принимает его за свое собственное…»
Я похолодел. Выходит, я не ошибся. Но Эльза, по крайней мере, явилась сюда не из «Карнавала»? Не с концерта, не из ложи, не из Шумана? Все просто: несколько дней тому назад зазвонил телефон: «» — Эльза по какой-то причине вспомнила Омелу и зашла к ней. Наверняка она сидела в кресле напротив, по другую сторону камина; на низеньком столике был сервирован чай; на ней голубое пальто, шотландская сумка на полу, на голове легкий шарф, и так же, как по телефону, она спросила: «Я вас не побеспокою?» Ничего особенного. Я ушел, оставив их наедине. Я просто позабыл, что они знакомы, вот и все. В Париже это обычное дело. Однако я не об этом. Омела говорит об Эльзе, как говорила бы о себе, и даже порой оговаривается: вместо «она» — «я». Как я с Антоаном. Не путает только цвет глаз («они у нее все такие же голубые»). Ингеборг говорила не о ней, а о ее романах, как она выразилась, о побочной теме…
«Знаете, мой дорогой, поначалу я не обратила внимания… слишком личными были темы: картины детства, начиная с самых первых ее книг, написанных еще по-русски, повторялись опять и опять, как зеркальная игра, вплоть до вещей, которые были написаны во время Сопротивления… Прием обнаружил себя в «Инспекторе развалин», где она ввела тему «Ложи чужаков», откровенно взятую у Гофмана… и Антонен Блонд осветился романтическим светом…»
Ну что со мной поделать: чуть услышу что-нибудь неординарное — и меня уже будто пришпорили, несусь вскачь, скачу через барьеры, которые сам же себе подставляю. Омела еще не кончила излагать свои взгляды на романы Эльзы Триоле, а во мне уже зароились воспоминания, подтверждающие пока еще смутно брезжущую мысль… Я вспомнил первую прочитанную мной книгу Эльзы… перед самой войной… Она называлась «Добрый вечер, Тереза…» Там было двое мужчин, до того похожих, что когда один входил слева, а второй — справа, то присутствовавшим казалось, будто у них двоится в глазах… близнецы, как там объяснялось, — и одна женщина, а вторая умерла. И вдруг меня осенило: не оттуда ли, улучшив цвет моих глаз, позаимствовала Омела «игру в Антоана», — так не без злости я именую происходящее? И более того: чем послужила мне самому «игра Терезы» — зыбкая множественность женской души, Терезы, чье имя выплыло как-то поздней ночью из случайной радиопередачи и которую автор надеется воссоздать с помощью множества историй, составляя из них одну: историю женщины, выдумавшей себя совсем другой или бывшей другой внутри себя, историю о другой Терезе в этой; так на сцене с помощью луча от поворачивающегося зеркала в центре действия оказывается то один персонаж, то другой. Я-то думал, что сам открыл в себе эту подвижную множественность, зыбкое скольжение многих «я», а получается, взял взаймы, воспользовался готовым… Выходит, и это не творение, а отражение!

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.
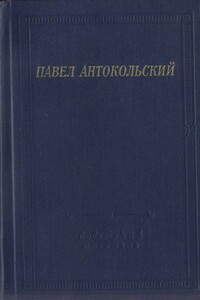
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.
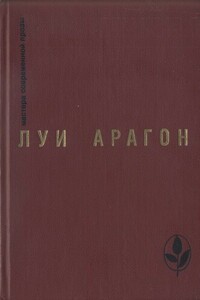
В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

