Гибель Петрограда - [2]
Скользя и подпрыгивая по мокрому тротуару, бежал Забелин на телеграф, а частый дождик, невидимый за темнотою ночи, стекал с картуза за шею и хлестал в лицо.
«Ради Бога, отвечайте здоровье Наденьки», — повторял Забелив придуманную телеграмму и весь трясся от страха и тоски, потому что, заснув у стола под лампой, увидел он не лес, как ожидал, не веселое солнце, а бурьянную, изрытую колеями, вспухшую от дождей ночную степь и над ней, быстрым полетом описывая широкую дугу, улетающую ввысь белую тень. С криком, хватаясь за грудь, проснулся Иван Забелин и почувствовал, понял собачьей тоской беду.
Перебегая теперь улицу, поскользнулся Забелин и ухватился за фонарный столб, четырехгранный и решетчатый, которых много в старом городе. Мимо, дрыгая колесами, проехал извозчик, подняв мокрый кузов. Забелин поглядел на него, потом поднял голову вверх, откуда, освещенный фонарем, во множестве, из страшной, черной выси падал наклонный дождь.
Уходя взором за светлыми этими нитями все выше, до хлюпких туч, заваливших ночное небо, крепче схватился Забелин за чугунный столб и ахнул в смертельной тоске: там, пронизав тьму, опускалась над городом, тем же плавным полетом, белая тень.
— Плохо мое дело, — сказал Забелин, — устал я, должно быть.
А когда вернулся с телеграфа, привернул лампу и лег в постель, накрывшись пледом и пальто, принялась его трясти, душить и томить злая лихорадка.
В темную комнату влетела белая и воздушная Наденька, быстро легла к Забелину на постель, охватила холодными руками и стала терзать грудь, чтобы уж, не долго муча, вырвать сердце. А Забелин, не в силах разглядеть Наденькиного неуловимого лица, метался, прижимаясь к мучительнице. И чем дольше продолжалась борьба, тем тяжелей и ловчей становились ухватистые руки, наконец просунула она ледяные пальцы вовнутрь, рванула за всю грудь и Забелин, сброшенный с постели, стал падать в темноту. Падая, он сознал, что в бездне нет дна. Ужас от этого уничтожил все помыслы и воспоминания и Забелин корчился, как сухой лист. Когда же от безмерной этой муки сгорел весь, пропало для него время, тогда быстро сверху долетела спокойная и строгая Наденька, подхватила его и сказала, не открывая глаз:
— Теперь ты умер, как и я, мы свободны и бессмертны — летим!
Мрак стал таять, как серый туман. Открылось пространство, полное существ, не имеющих формы; все было слепо, глухо и безразлично. А в центре неслась живая, зеленая земля, оставляя позади себя, в сумерках, разрушенные селения, откуда поднимались белые облики душ, далее залегали мертвые поля и, у самого края, бросал исполинскую тень воин с птичьим клювом. А впереди горело солнце, и от него к земле, летящей навстречу, зыбились, как утренний туман, незнакомые, назначенные к воплощению, призрачные города неведомой красоты. И, видя все это, понял Забелин, что перед ним хоровод времен.
Тогда обернулся он к Наденьке и сказал:
— Полетим и найдем наш лес и овраг, любовь моя!
И, когда он сказал: «любовь моя», неживое лицо Наденьки все осветилось, раскрылись бирюзовые глаза и, взмахнув руками, вытянулась она, благоухая и изменяясь, и засияла, как солнце, голова ее в нимбе волос.
И Забелин, ослепленный, пронизанный светом, в котором утонуло все вокруг, прильнул к ее лицу и сказал:
— Мы в Раю!
Мирэ
ПАВЛИНЫ
Я забираюсь в самый темный уголок моей мастерской. И все же я не уверен, что яркий солнечный свет не настигнет меня и не упадет на меня тонкой полоской, словно выкованной из золота. Сегодня утром я не могу выносить солнечного света, тяжело становится на сердце, и оно словно придавливается могильным камнем. Я смотрю на пыльный пол и на блестки каменного угля, разбросанные около железной печки. У меня сегодня еще не убирали: в углу окурки, скомканные бумаги…
Я сажусь на сломанный стул около железной печки и начинаю думать о своей судьбе, о безжизненности красок на моих картинах, о заколдованном круге, очерченном возле меня чьей-то невидимой и всесильной рукой. Ну, как же не поверить в Рок, если мне никогда ничего не удается? Очевидно, Рок существует. И притом очень несправедливый. Какие-нибудь умники, пожалуй, скажут, что нужно работать, хорошенько работать, и тогда все пойдет, как по маслу. Ну, а я не работал? У меня кружится голова, и я чувствую себя слабым, как молодая девушка после болезни. Больше всего меня огорчает безжизненность моих красок. Когда я хочу нарисовать маленького веселого клоуна, он появляется на полотне заплаканным, недоверчиво глядящим на хлыст директора и с несколькими синяками на тонкой коже бледного молодого лица. И так всегда, всегда…
Потому у меня нет заказчиков.
Сердце мое, неужели ты не знало красных триумфов жизни? Ты не слышало никогда стука побеждающего меча?
Тебе неведома радость, с какой избранник топчет ногами уничтоженное препятствие? Тебе близка только печаль, зарождающаяся и угасающая, подобно сумеркам?.. Ты не умеешь мстить и ненавидеть, грустное сердце, полюбившее закатную пурпуровую тень?..
О, мое сердце, в загробной жизни тебя не полюбят Валькирии!
Я смотрю на тусклых павлинов, которых я нарисовал на желто-голубом фоне, и на бахрому их перьев, купающихся в крови.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Александр Грин создал в своих произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями – Лисс, Зурбаган, Гель-Гью – прекрасные девушки поджидают своих женихов. В этот мир – чуть приподнятый над нашим, одновременно фантастический и реальный, мы и приглашаем читателей.
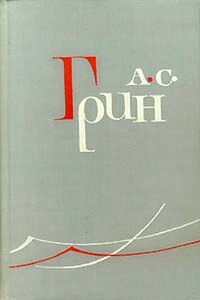
В марте 1915 года в маленьком бельгийском городке Сен-Жан, почти сплошь разрушенном немцами и почти совершенно опустевшем, появился путник. Он искал ночлег…

Двое молодых людей – он и она, сошли с парохода, потерпевшего крушение. Оба спешат в Зурбаган. (Она – к больному отцу. Он – бежал из тюрьмы, куда попал из-за любимой им женщины.) Они покупают одну лодку на двоих, и начинается психологический поединок сердец…© FantLab.ru.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Рассказ приоткрывает «окно» в напряженную психологическую жизнь писателя. Эмоциональная неуравновешенность, умственные потрясения, грань близкого безумия, душевная болезнь — постоянные его темы («Возвращение Будды», «Пробуждение», фрагменты в «Вечере у Клэр» и др.). Этот небольшой рассказ — своего рода портрет художника, переходящего границу между «просто человеком» и поэтом; загадочный женский образ, возникающий в воображении героя, — это Муза или символ притягательной силы искусства, творчества. Впервые — Современные записки.

Валерий Тарсис — литературный критик, писатель и переводчик. В 1960-м году он переслал английскому издателю рукопись «Сказание о синей мухе», в которой едко критиковалась жизнь в хрущевской России. Этот текст вышел в октябре 1962 года. В августе 1962 года Тарсис был арестован и помещен в московскую психиатрическую больницу имени Кащенко. «Палата № 7» представляет собой отчет о том, что происходило в «лечебнице для душевнобольных».

Оборотничество, ликантропия, явления призраков из потустороннего мира, круговорот душ и диктат рока — таковы темы мистическо-фантастических произведений Поля Виолы, разворачивающихся на фоне странных «помещичьих гнезд» Полесья. Под псевдонимом «Поль Виола» (Paul Viola) в печати выступал киевский поэт, прозаик и переводчик П. Д. Пихно (1880–1919). Его рассказ «Волчица» и повесть «Мраморное поместье», вошедшие в настоящую книгу, переиздаются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
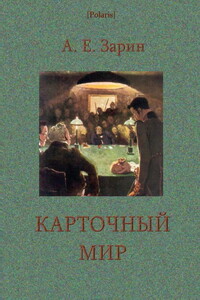
Фантастическая история о том, как переодетый черт посетил игорный дом в Петербурге, а также о невероятной удаче бедного художника Виталина.Повесть «Карточный мир» принадлежит перу А. Зарина (1862-1929) — известного в свое время прозаика и журналиста, автора многочисленных бытовых, исторических и детективных романов.
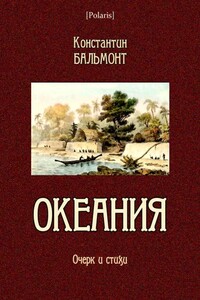
В книгу вошел не переиздававшийся очерк К. Бальмонта «Океания», стихотворения, навеянные путешествием поэта по Океании в 1912 г. и поэтические обработки легенд Океании из сборника «Гимны, песни и замыслы древних».
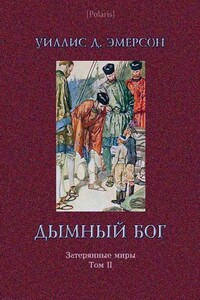
Впервые на русском языке — одно из самых знаменитых фантастических произведений на тему «полой Земли» и тайн ледяной Арктики, «Дымный Бог» американского писателя, предпринимателя и афериста Уиллиса Эмерсона.Судьба повести сложилась неожиданно: фантазия Эмерсона была поднята на щит современными искателями Агартхи и подземных баз НЛО…Книга «Дымный Бог» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций произведений, которые относятся к жанру «затерянных миров» — старому и вечно новому жанру фантастической и приключенческой литературы.

Четверо ученых, цвет европейской науки, отправляются в смелую экспедицию… Их путь лежит в глубь мрачных болот Бельгийского Конго, в неизведанный край, где были найдены живые образцы давно вымерших повсюду на Земле растений и моллюсков. Но экспедицию ждет трагический финал. На поиски пропавших ученых устремляется молодой путешественник и авантюрист Леон Беран. С какими неслыханными приключениями столкнется он в неведомых дебрях Африки?Захватывающий роман Р. Т. де Баржи достойно продолжает традиции «Затерянного мира» А. Конан Дойля.