Гёте - [30]
Драматичность ситуации была обусловлена самой спецификой характера Гёте. Резолюция, наложенная им однажды в административном порядке: «Все зависит от личности» — в полной мере сохраняла силу во всех проявлениях этого характера, и наука не могла составить здесь исключения. Ему был бесконечно чужд тип ученого мужа, культивирующего стерильную объективность ценою чудовищно репрессивных мер в отношении собственной личности, где идеалом научного знания выступало насильственное самоотчуждение от научного поиска. Об этих ученых выразился он однажды в таких словах: «Слишком велика масса неполноценных людей, которые оказывают влияние и воздвигают свое ничтожество друг на друге» (9, 38(4), 13). Его случай был вполне полноценным; его наука имитировала не «гримасничающую серьезность совы» (как он выразился в другой раз), а веселую науку провансальских трубадуров: «…теоретизировать сознательно, с привлечением своих знаний, свободно и, если воспользоваться смелым словом, иронично; такое умение необходимо для того, чтобы абстракция, которой мы опасаемся, оказалась бы безвредной, а результат опыта, который мы ожидаем, — вполне живым и полезным» (7, 3, 79). По этому принципу он не только теоретизировал, но и жил; «Зезенгеймские песни», «Гец фон Берлихинген», «Метаморфоз растений» проистекают из одного источника и морфологически равноценны. Понятно, что в живой природе внимание такого человека могла привлекать не решетка классификации, а сама жизнь. В одном юношеском письме он пишет об увиденной им бабочке: «Бедное создание трепещет в сачке, стирает свои прекраснейшие цвета, и когда его ловят невредимым, оно лежит уже застывшим и безжизненным; труп не есть всё животное, здесь недостает чего-то еще, чего-то главного, а при случае, как и при всех случаях, чего-то очень главного: жизни» (9, 1(4), 237). Между тем именно жизни недоставало и вновь зарождающейся науке о живой природе; наилегчайшее и здесь оказывалось наитруднейшим: видеть глазами то, что лежало перед глазами. Наука о живом росла и крепла под строжайшим присмотром более старшей по возрасту и несоизмеримой по успехам науки о неживом; гегемон механистической модели не мог не сказаться и в этом случае. Мы уже имели возможность ранее отметить особенности общего стиля эпохи, словно бы запрограммированной в гигантских масштабах идеей формализованного порядка. Порядок стал бредом, одержимостью, невменяемостью ума; все, что грешило против правил этого порядка, подлежало либо исправлению, либо исключению: Драйден переписывал Шекспира согласно правилам, издатели вычеркивали из него сотни строк, Фридрих II благодарил Вольтера за редактированный перевод «бесформенной пьесы этого англичанина»; во Франции свирепствовал Буало, и «исправленные» гомеровские герои вели себя на подмостках сцен, как будущие персонажи романов Дюма; триумф суровейших правил вызвучивался в барочной музыке; теологи упорядочивали небеса по схеме конституционной монархии — «даже Бог Локка, — как удачно выразился один английский исследователь, — был вигом» (24, 3); открывалась эпоха нотариусов и бюрократов, где сама Вселенная моделировалась на манер бесконечного «конструкторского бюро» при отсутствии нужды клерков в гипотезе Главного Конструктора. Мода на математику, ибо что в большей степени могло гарантировать порядок, как не математика, побивала все рекорды истории мод; математикой бредили все: мужчины, женщины, сановные особы, обыватели; появлялись придворные математики; Фонтенель приписывал все хорошие книги a l'esprit geometrique (духу геометрии). Понятно, что метод Линнея в этом контексте не мог быть курьезом; скорее напротив, курьезом оказывалось все не подчиняющееся этому методу. Богатство и разнообразие форм живой природы вносили пугающий диссонанс в господствующее умонастроение эпохи; «жизнь» грозила «порядку» чем-то очень главным и ему недостающим: собою. Здесь и сыграл свою роль таксономический гений шведского ученого, подчинившего природу господству вымышленных знаков и структур.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.
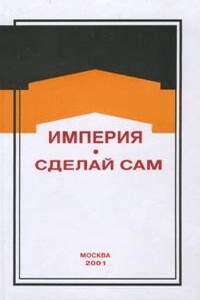
Автор, являющийся одним из руководителей Литературно-Философской группы «Бастион», рассматривает такого рода образования как центры кристаллизации при создании нового пассионарного суперэтноса, который создаст счастливую православную российскую Империю, где несогласных будут давить «во всем обществе снизу доверху», а «во властных и интеллектуальных структурах — не давить, а просто ампутировать».

Автор, кандидат исторических наук, на многочисленных примерах показывает, что империи в целом более устойчивые политические образования, нежели моноэтнические государства.
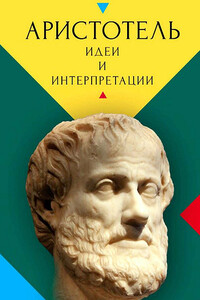
В книге публикуются результаты историко-философских исследований концепций Аристотеля и его последователей, а также комментированные переводы их сочинений. Показаны особенности усвоения, влияния и трансформации аристотелевских идей не только в ранний период развития европейской науки и культуры, но и в более поздние эпохи — Средние века и Новое время. Обсуждаются впервые переведенные на русский язык ранние биографии Аристотеля. Анализируются те теории аристотелевской натурфилософии, которые имеют отношение к человеку и его телу. Издание подготовлено при поддержке Российского научного фонда (РНФ), в рамках Проекта (№ 15-18-30005) «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе». Рецензенты: Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Репина Л.П. Доктор философских наук Мамчур Е.А. Под общей редакцией М.С.
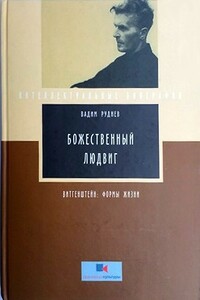
Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.
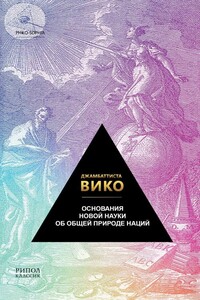
Вниманию читателя предлагается один из самых знаменитых и вместе с тем экзотических текстов европейского барокко – «Основания новой науки об общей природе наций» неаполитанского философа Джамбаттисты Вико (1668–1774). Создание «Новой науки» была поистине титанической попыткой Вико ответить на волновавший его современников вопрос о том, какие силы и законы – природные или сверхъестественные – приняли участие в возникновении на Земле человека и общества и продолжают определять судьбу человечества на протяжении разных исторических эпох.
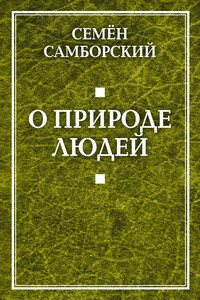
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.