Гёте - [12]
И все-таки он задыхался. Непонятным образом дело шло к концу, хотя роптать на судьбу у него не было ни малейших оснований. Он чувствовал, что зашел в тупик и что случай до невозможного обострялся тем обстоятельством, что налицо были все признаки отсутствия тупика; предположить можно было все что угодно, кроме тупика, но реальностью оказывался именно тупик. «Я считал себя мертвым», — скажет он чуть позже, осмысливая уже из Италии последние месяцы веймарского одиннадцатилетия (9, 8(4), 83); спасение и на этот раз было инстинктивным. Надо представить себе ситуацию, когда последнее слово остается за чисто моторной реакцией; человек встает, нарушая все нормы поведения, и направляется к выходу, но дело идет при этом не просто о выходке, а о глотке свежего воздуха, отсутствие которого — сию же минуту— грозит разрывом сердца. 3 сентября 1786 г. в три часа утра Гёте тайком покинул Веймар. Об отъезде не знал никто, даже герцог; в кармане лежали документы на имя Жана Филиппа Мёллера, живописца. Неясна была даже цель побега; путь лежал поначалу в сторону Мюнхена; потом оказалось, что он вел в Италию, ибо попасть любой ценой надо было именно в Италию.
Дело шло не о случайном капризе; это была исконная ностальгия германской души, гнавшая эту душу со времен великих Штауфенов до Гёльдерлина и Ницше на юг, под лазурное итальянское небо. Признания Гёте не оставляют ни малейших сомнений насчет реальной причины этого внешне столь экстравагантного бегства: «Я несказанно узнал себя в этом путешествии» (9, 8(4), 232); «Наконец, я достиг цели моих желаний… Моя привычка видеть и читать все вещи такими, как они есть, смотреть на все ясными глазами, мой полный отказ от всяких претензий — все это делает меня здесь, в тиши, в высшей степени счастливым» (9, 8(4), 50); «В Риме я впервые обрел самого себя, впервые в согласии с самим собою стал я счастливым и разумным» (9, 32(4), 295). Путешествие длилось два года; был даже соблазн поселиться здесь навсегда; в этой стране, хранящей верность истокам европейского детства, не разучились еще весело хлопать в ладоши при виде колотящейся о мостовую посуды; здесь еще раз удалось ему соорудить детский алтарь и повторить детское богослужение. Соблазн был велик, но долг перед будущим одержал победу. Италия не стала остановленным мгновением этого еще не написанного «Фауста»; последний взгляд, брошенный им на римскую Кампанью, был не только взглядом разлуки, но и приобретением; он уносил ее с собою как душевное здоровье и импульс жизни. Италию нужно было увидеть, вспомнить, вобрать в себя и увезти с собою. Он сделал это и уже никогда сюда не возвращался.
Позади оставались разбитые осколки детского мифа, или страна туристических древностей.
Глава III. «КАРЬЕРА В НЕВОЗМОЖНОМ»
Гёте-естествоиспытатель остался полностью вне зрения Канта, хотя самые существенные открытия в области органической природы и, что бесконечно важнее, создание самой органики как науки были сделаны им еще при жизни кёнигсбергского философа. «Кант меня попросту не замечал» (3, 234) — так ответил однажды Гёте на вопрос Эккермана о том, были ли они знакомы. Фактически этот ответ не таит в себе никакой проблемы; значимость его симптоматична и символична. Попытаемся обыграть его в небольшом мысленном эксперименте. Как оказалось возможным, что Кант попросту не заметил Гёте (добавим в скобках, не такого уж и незаметного)? Не оттого ли, что, заметь он Гёте, ему пришлось бы — попросту! — посчитаться с ним, не с поэтом, а как раз с естествоиспытателем, выдвинувшим и на деле подтвердившим совершенно новый, небывалый, революционный метод научного познания живой природы? Острота вопроса усиливается тем более, что речь идет именно о естествознании, во всех отношениях и принципиально альтернативном ньютоновскому; не только в истории науки, но и в истории культуры вообще едва ли сыщется прецедент, равный по непримиримости отношению Гёте к Ньютону. Вопрос «как возможен „Гёте“?», равносильный в общей форме вопросу о возможности интуитивного познания, поставил бы Канта перед труднейшим выбором: пришлось бы либо в корне перестраивать все здание критики познания, либо — вопреки факту и очевидности — заключить к невозможности «создателя» позвоночной теории черепа и морфологии растений. Гёте постигла бы участь шведского духовидца Сведенборга, замеченного в свое время Кантом и разоблаченного как «трансцендентальная иллюзия» (евфемизм, обозначающий на языке Канта попросту «шарлатанство»).
Обоснование возможности ньютоновского естествознания могло бы показаться на первый взгляд вопросом, имеющим частную и специальную значимость. На деле эта проблема выходит далеко за рамки сугубо научного и философского интереса и представляет собой первостепенную задачу культурно-исторического ранга. Возможность «Ньютона» отнюдь не ограничивалась сферою математического естествознания; ко времени Гёте и Канта она приобрела значимость некой универсальной парадигмы почти для всех измерений культуры и быта. По сути дела «Критика чистого разума» философски обосновывала не только научное знание, но и некую жизненную возможность, некое единство стиля жизни, специфически проявляющегося в самых различных областях и нашедшего совершенное выражение в символах механистического мировоззрения. Возможность «Ньютона» оказывалась в этом смысле возможностью жизни вообще, включая и те сферы жизненного поведения, где о самом Ньютоне и естествознании как таковом можно было не иметь ни малейшего представления. Для историка культуры, исследующего многообразие некой эпохи с целью выявления ее культурной физиогномики, подобное единство есть вопрос мало-мальски развитой техники существенных ассоциаций и умения оформлять материал сообразно требованиям структурно-типологических связей. «Ньютон» (понятый символически и симптоматологически) вырастает до значимости модели — или, как сказали бы сегодняшние философы, «порождающей модели» — эпохи; «Ньютона» в этом смысле приходится обнаруживать не только в естественнонаучных мемуарах эпохи, но и, с не меньшей силой, в политике, эстетике, религиозных представлениях, социальной жизни: от чисто механистического описания Версальского двора у герцога Сен-Симона до механизма поступков, совершаемых героями романов Ретифа де ла Бретона. Возможность этой культурно-исторической типологии и обосновывал на деле Кант под скромной маской анализа оснований математического естествознания.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

Автор в своей работе пытается переосмыслить творчество Гете, важность его литературного наследия для мировой культуры.Гете-поэт как функция переменного значения, охватывает целый класс проявлений этой личности: поэт-философ, поэт-естествоиспытатель. Но что бы он не делал, чем бы ни занимался, он прежде всего и во всем поэт.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лешек Колаковский (1927-2009) философ, историк философии, занимающийся также философией культуры и религии и историей идеи. Профессор Варшавского университета, уволенный в 1968 г. и принужденный к эмиграции. Преподавал в McGill University в Монреале, в University of California в Беркли, в Йельском университете в Нью-Хевен, в Чикагском университете. С 1970 года живет и работает в Оксфорде. Является членом нескольких европейских и американских академий и лауреатом многочисленных премий (Friedenpreis des Deutschen Buchhandels, Praemium Erasmianum, Jefferson Award, премии Польского ПЕН-клуба, Prix Tocqueville). В книгу вошли его работы литературного характера: цикл эссе на библейские темы "Семнадцать "или"", эссе "О справедливости", "О терпимости" и др.

Ключевой вопрос этой книги: как выглядит XX столетие, если отсчитывать его с 1945 года – момента начала глобализации, разделения мира на Восточный и Западный блоки, Нюрнбергского процесса и атомного взрыва в Хиросиме? Авторский взгляд охватывает все континенты и прослеживает те общие гуманитарные процессы, которые протекали в странах, вовлеченных и не вовлеченных во Вторую мировую войну. Гумбрехт считает, что у современного человека изменилось восприятие времени, он больше не может существовать в парадигме прогресса, движения вперед и ухода минувшего в прошлое.
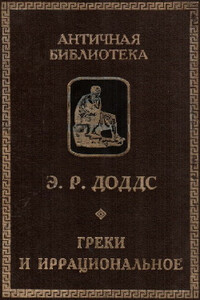
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

В своем исследовании автор доказывает, что моральная доктрина Спинозы, изложенная им в его главном сочинении «Этика», представляет собой пример соединения общефилософского взгляда на мир с детальным анализом феноменов нравственной жизни человека. Реализованный в практической философии Спинозы синтез этики и метафизики предполагает, что определяющим и превалирующим в моральном дискурсе является учение о первичных основаниях бытия. Именно метафизика выстраивает ценностную иерархию универсума и определяет его основные мировоззренческие приоритеты; она же конструирует и телеологию моральной жизни.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

В книге излагается жизненный и творческий путь замечательного русского философа и общественно-политического деятеля Д. И. Писарева, бесстрашно выступившего против реакционных порядков царской России. Автор раскрывает оригинальность философской концепции мыслителя, эволюцию его воззрений. В «Приложении» даются отрывки из произведений Д. И. Писарева.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.