Герцоги республики в эпоху переводов - [71]
Поход за именами
Итак, российские новаторы возводят свою интеллектуальную генеалогию к фигурам и течениям, которые символизируют протест против великих парадигм. Подходы, с которыми связаны имена X. Уайта, К. Гирца, Ст. Гринблатта — лингвистический поворот, символическая антропология, новый историзм, — обладали свежестью и привлекательностью, пока то, против чего они восставали (а именно старые парадигмы), продолжало играть важную роль, интеллектуальный хаос скорее прельщал, а позитивистскую атаку было еще трудно предвидеть. Но когда доминирующие парадигмы распались, а методологический разброд стал угрожать самому существованию социальных наук, стало очевидно, что ни одно из этих направлений не способно ни упорядочить хаос, ни предложить способ выхода из кризиса — что и вызвало падение интереса к этим течениям на Западе. Но слабо тлеющего в них отблеска жизни оказалось достаточно для того, чтобы заинтересовать российских исследователей, которые, открыв их уже в эпоху переводов, превратили их в свой опознавательный знак, интеллектуальный символ.
Что заставило Проскурина забыть о решительном отказе от теории и о нелюбви к постмодернизму, что побудило Зорина пуститься в нелюбимые им теоретические изыскания? Зачем понадобился Эткинду новый историзм? Почему все три исследователя отправились в поход за именами, чтобы выбрать в качестве предтеч авторитеты уходящей эпохи?
Действительно, в отношении Эткинда, Зорина и Проскурина к своим «кумирам» много общего. Все они, словно сговорившись, как бы не замечают времени, истекшего с момента написания работ Уайта, Гирца и даже Гринблатта, продолжая использовать их идеи непосредственно, как если бы их произведения были написаны вчера, не считаясь с грузом критики, интерпретаций и просто ушедшего времени. Впрочем, кто будет оспаривать право исследователя мастерить свой интеллектуальный инструментарий из всего, что попадется под руку? Но проблема в том и состоит, что великих мастеров не пускают дальше прихожей, им заказан доступ в текст, их идеи либо не используются в анализе, либо вступают в откровенное противоречие с оригинальными исследовательскими практиками российских новаторов.
Отметим, что все три автора выбирают великих среди тех, чье наследие поддается множественным интерпретациям, не налагает значимых интеллектуальных запретов и не предъявляет обязательных к исполнению методологических требований.
Безусловно, описанные выше случаи — отнюдь не единственный пример ложной научной генеалогии. Чтобы не ходить далеко за примером, достаточно вспомнить сравнительно недавнюю попытку Пьера Нора возвести «Места памяти» к «Социальным кадрам памяти» Мориса Альбвакса. Нора предельно далек от социологии и философии Дюркгейма. Он никогда особенно не интересовался социальной историей — тему связи памяти с разными социальными группами трудно встретить на страницах «Мест памяти». Создателя «Мест памяти» интересовала «французскость», символическое переживание прошлого в сознании современных французов, а вовсе не отличия коллективной памяти интеллектуалов от школьных учителей. Альбвакс понадобился Нора потому, что его собственный подход был слишком оригинален, слишком смел и настолько радикально выламывался за рамки всякой научной традиции, что даже он, «интеллократ» уже к моменту создания проекта, ощутил потребность в предшественнике, легитимизирующем его демарш. Альбвакс был, вероятно, лучшим кандидатом на эту роль, хотя «социальные кадры памяти» не нашли своего места в «Местах памяти». Примерами такого рода богата интеллектуальная история всех времен и народов.
Потребность освятить свое творчество именем великого предшественника, вероятно, тоже была не последним побудительным мотивом для российских новаторов. Представление о том, что должны быть теоретические предшественники, должны быть парадигмы, должны быть методы, должны быть школы, а те, у кого их нет, — неполноценные ученые, разлито в агрессивной профессиональной «среде», с которой новаторы продолжают бороться ее же оружием. Логика полемики заталкивает их назад в академию, заставляя идти на забавные компромиссы.
Однако потребность в ложных генеалогиях у российских интеллектуалов имеет и другие корни. Гирц и Уайт нужны Зорину и Проскурину вовсе не затем, чтобы освятить созданное ими направление хотя бы потому, что они едва ли стремятся его создать, да и Эткинд тоже вряд ли претендует на основание новой школы. Выбор имен предшественников оборачивается выбором не-имен или выбором таких имен, которые не способны заслонить собой то, что делают сами Зорин, Проскурин и Эткинд, превратить их в «представителей школы N». Ибо кто из тех, кто сегодня претендует на новаторство, может позволить себе всерьез назваться приверженцем символической антропологии? Выбор Гирца или Уайта, выбор нового историзма — это выбор не-имени. Половинчатый путь, компромисс, на который идут писатели со средой. Может быть, отказ осмыслять себя в качестве «направления», отказ выбирать сильных предшественников, чье имя придется носить вместо своего собственного, скрывает желание отстоять свое собственное имя и не позволить заменить его нарицательным? Может быть, на смену научным школам, направлениям, парадигмам, нарицательным именам и коллективному величию прошлого идет индивидуальное величие собственного имени?
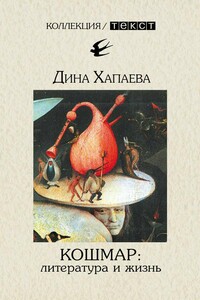
Что такое кошмар? Почему кошмары заполонили романы, фильмы, компьютерные игры, а переживание кошмара стало массовой потребностью в современной культуре? Психология, культурология, литературоведение не дают ответов на эти вопросы, поскольку кошмар никогда не рассматривался учеными как предмет, достойный серьезного внимания. Однако для авторов «романа ментальных состояний» кошмар был смыслом творчества. Н. Гоголь и Ч. Метьюрин, Ф. Достоевский и Т. Манн, Г. Лавкрафт и В. Пелевин ставили смелые опыты над своими героями и читателями, чтобы запечатлеть кошмар в своих произведениях.
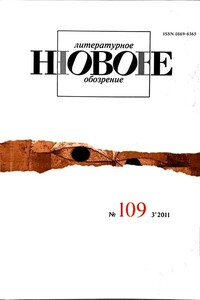
«Что говорит популярность вампиров о современной культуре и какую роль в ней играют вампиры? Каковы последствия вампиромании для человека? На эти вопросы я попытаюсь ответить в этой статье».

Эта книга посвящена танатопатии — завороженности нашего общества смертью. Тридцать лет назад Хэллоуин не соперничал с Рождеством, «черный туризм» не был стремительно развивающейся индустрией, «шикарный труп» не диктовал стиль дешевой моды, «зеленые похороны» казались эксцентричным выбором одиночек, а вампиры, зомби, каннибалы и серийные убийцы не являлись любимыми героями публики от мала до велика. Став забавой, зрелище виртуальной насильственной смерти меняет наши представления о человеке, его месте среди других живых существ и о ценности человеческой жизни, равно как и о том, можно ли употреблять человека в пищу.

Был ли Дж. Р. Р. Толкин гуманистом или создателем готической эстетики, из которой нелюди и чудовища вытеснили человека? Повлиял ли готический роман на эстетические и моральные представления наших соотечественников, которые нашли свое выражение в культовых романах "Ночной Дозор" и "Таганский перекресток"? Как расстройство исторической памяти россиян, забвение преступлений советского прошлого сказываются на политических и социальных изменениях, идущих в современной России? И, наконец, связаны ли мрачные черты современного готического общества с тем, что объективное время науки "выходит из моды" и сменяется "темпоральностью кошмара" — представлением об обратимом, прерывном, субъективном времени?Таковы вопросы, которым посвящена новая книга историка и социолога Дины Хапаевой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
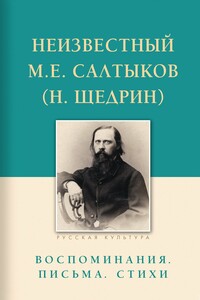
Михаил Евграфович Салтыков (Н. Щедрин) известен сегодняшним читателям главным образом как автор нескольких хрестоматийных сказок, но это далеко не лучшее из того, что он написал. Писатель колоссального масштаба, наделенный «сумасшедше-юмористической фантазией», Салтыков обнажал суть явлений и показывал жизнь с неожиданной стороны. Не случайно для своих современников он стал «властителем дум», одним из тех, кому верили, чье слово будоражило умы, чей горький смех вызывал отклик и сочувствие. Опубликованные в этой книге тексты – эпистолярные фрагменты из «мушкетерских» посланий самого писателя, малоизвестные воспоминания современников о нем, прозаические и стихотворные отклики на его смерть – дают представление о Салтыкове не только как о гениальном художнике, общественно значимой личности, но и как о частном человеке.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.

«Необыкновенная жизнь обыкновенного человека» – это история, по существу, двойника автора. Его герой относится к поколению, перешагнувшему из царской полуфеодальной Российской империи в страну социализма. Какой бы малозначительной не была роль этого человека, но какой-то, пусть самый незаметный, но все-таки след она оставила в жизни человечества. Пройти по этому следу, просмотреть путь героя с его трудностями и счастьем, его недостатками, ошибками и достижениями – интересно.
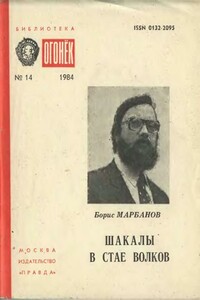
Борис Владимирович Марбанов — ученый-историк, автор многих научных и публицистических работ, в которых исследуется и разоблачается антисоветская деятельность ЦРУ США и других шпионско-диверсионных служб империалистических государств. В этой книге разоблачаются операции психологической войны и идеологические диверсии, которые осуществляют в Афганистане шпионские службы Соединенных Штатов Америки и находящаяся у них на содержании антисоветская эмигрантская организация — Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС).

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.