Георгий Победоносец - [111]
— А вот хранилась бы она в монастыре, — мечтательно проговорил он и благочестиво возвёл очи горе, — как бы было гоже! Братия б на неё денно и нощно молилась, а когда икона намолена, сила её во сто крат возрасти может. Вынесли б её на поле брани — вот именно, крестным ходом, — глядишь, Девлет бы и отступил, гнева Божьего убоявшись…
Оказалось, что лоб у Ивана Феофановича твёрдый и что просто так, с наскоку, его не прошибёшь.
— Могло, могло такое случиться, — тяжко кивая головой, с значительным видом проговорил он. — Икона-то старинная, чудотворная. А только чего ныне про то говорить? И без иконы татарина прогнали, слава тебе, Господи…
— Татарина прогнали — швед придёт. Или немец. Или поляк какой, — окончательно плюнув на дипломатию, пошёл напролом игумен. — В монастыре-то, поди, сохраннее! А у тебя, батюшка, дети малые, неразумные. Далеко ль с ними до беды?
С боярскими детьми до беды и впрямь было недалеко. Вернее, младшенький, годовалый Алёша, пока что был дитя как дитя, разве что плаксивое — по всему видать, просто по малолетству не успел ещё явить себя миру во всей красе. Старший же, Гаврила Иванович, в свои одиннадцать лет уже стал сущим наказанием для всех, даже и для отца, который старался пореже его видеть. Ходил плохо, говорил и того хуже, зато, чуть что, ревел так громко и злобно, что хоть ты из терема беги. Нрава был угрюмого и нелюдимого, кошек и иную мелкую живность мучил нещадно, и дворню, хоть от земли ещё толком не отрос, тиранил люто. Когда наказывали, мстил — то отцу шубу бобровую ножом изрежет, то матери за мягкий упрёк кулаком глаз подобьёт, а то, было, схватил со зла скамейку и на глазах у всех высадил той скамейкой новёхонькое, только что вставленное окошко с тонким затейливым переплётом. Скамейка-то была тяжёлая, но и дитя уродилось на славу — пожалуй, даже крупнее, чем сам боярин в его возрасте был. Телом истинный богатырь, а умом — дурачок, карла злобный. Трижды пытался терем поджечь и однова́ исхитрился-таки, поджёг. Спасибо, заметили вовремя и потушить успели. И на икону святого Георгия, что правда, то правда, косился так, словно прикидывал, как бы ему изловчиться и тайком от всех её в печку сунуть.
Удар был хоть и поспешный, необдуманный, но при том мастерский, и угодил он в самое больное, незащищенное место, пробив даже неуязвимую броню боярского самодовольства. Однако ж отец Апраксий и тут не преуспел — вернее, преуспел совсем не в том, в чём тщился преуспеть. Задеть-то он боярина задел, и задел больно, презрев ради благого дела многие христианские добродетели, но вот свершить сие благое дело, сиречь сломить знаменитое упрямство боярина Долгопятого, ему и на сей раз не посчастливилось.
По самую макушку налившись тёмной кровью, боярин подался к игумену через стол, протянул руку и сунул отцу Апраксию под нос мясистый волосатый кукиш.
— А сие видал?
— Не видал, — отшатываясь от кукиша и крестясь, молвил отец Апраксий.
То была почти правда: кукиша он не видывал с тех пор, как сделался настоятелем монастыря, а это случилось так давно, что всё, что было прежде, уже подёрнулось дымкой забвения и казалось далёким сном.
— Так полюбуйся, — предложил боярин и в самом деле ещё какое-то время удерживал кукиш против игуменова лица, будто затем, чтоб отец-настоятель мог получше разглядеть эту нехитрую комбинацию из трёх пальцев. После боярину, видать, стало неудобно сидеть, навалившись на стол туго набитым пищей и налитым вином чревом, и он откачнулся назад, убрав, наконец-то, руку и расплетя сложенные в обидную фигуру пальцы. — На чужой каравай рот не разевай, — наставительно продолжал он, схватив кувшин и до краёв наполняя вином свой кубок. — Ишь, чего захотел — родовую святыню ему подавай! Мало я и предки мои твоей обители жертвовали? И ныне жертвую, не скуплюсь… А ты последнее отнять норовишь? Гляди, осерчаю! Гроша ломаного боле не дам и детям своим накажу, чтоб наперёд не давали!
— Господь… — слабым голосом начал отец Апраксий, мысленно кляня беса, что дёрнул его за язык.
— А Господу всё едино, какому монастырю я жертвовать стану, — хладнокровно добил его боярин. — Нешто в одной твоей обители Бога славить умеют?
— Не гневись, Иван Феофанович, — признав полное поражение перед тупым упрямством Долгопятого, смиренным голосом молвил игумен. — Не для себя старался, а для блага всего православного люда. Коль что не так, прости да забудь. А в обитель езди. Хоть и не жертвуй, а всё ж приезжай. Привык я к тебе, любо мне с тобой. Уж больно ты хороший, душевный человек!
Грубая лесть, как всегда, оказала благотворное воздействие на расположение духа Ивана Феофановича. С довольным видом хрюкнув, он стал высматривать на столе, что бы ещё такое съесть.
— И ты мне люб, отче, — сказал он, рукой хватая с блюда мясистую куриную ногу и плотоядно облизываясь. — Прости и ты меня, ежели в каком грубиянстве повинен.
— Бог простит, — сказал отец Апраксий. — Давай-ка лучше батюшку твоего, Феофана Иоанновича, помянем по христианскому обычаю.
Помянули покойного боярина, поговорили о том, каков он был набожен, к простому люду добр, на поле брани доблести, а в мирной жизни иной добродетели исполнен. Под такой разговор было выпито и съедено столько, что уж и дышать трудно сделалось, а не токмо говорить. Иван Феофанович откинулся от стола, привалился жирными лопатками к стене и, давая себе роздых, рассеянно ковырял пальцем в зубах. Как всегда, когда гостил у игумена, после доброго застолья недоставало пляшущих дворовых девок иль какой другой потехи. В иные времена, по слухам, и жизнь была иная, но Иван Долгопятый той жизни уж не застал. Тёзка его, царь и великий князь Иван Васильевич, щедро наделив монастыри землями, строго-настрого запретил чинить в святых обителях пьянство и блуд. И сюда влез, окаянный! До всего ему дело, всякого норовит к ногтю прижать, и чем дольше правит, тем лютее. Вот и приходится им с игуменом бражничать один на один, затворившись в покоях. А с другой стороны, ежели подумать, хороши, видать, были монахи, коль их пришлось царскими указами да стрелецкими бердышами к монашескому смирению плоти приводить!
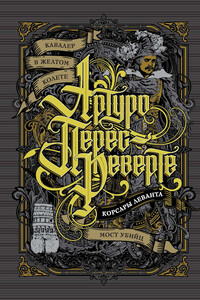
По страницам популярного цикла исторических романов Переса-Реверте шагает со шпагой в руке бесстрашный воин армии испанского короля, а в свободное от сражений время дуэлянт, авантюрист, благородный разбойник и наемный убийца, человек чести Диего Алатристе, которого за его неимоверную храбрость называют капитаном. В романах, продолжающих цикл, он все так же ходит по острию клинка и попадает в опасные ситуации, из которых человек ординарный вряд ли выйдет живым, – встает на пути злодея, задумавшего преступление века, едва не делается жертвой любви к великой актрисе, бороздит просторы Средиземного моря, сражаясь с турками и пиратами, а в Венеции должен совершить непростую миссию в привычной для себя роли наемного убийцы. Автор прославленных интеллектуальных детективов «Фламандская доска», «Клуб Дюма», «Кожа для барабана» в цикле о капитане Алатристе смело ведет игру на поле, где оставили яркий след такие знаменитые мастера авантюрно-исторических романов, как Александр Дюма, Рафаэль Сабатини, Эмилио Сальгари, и нисколько не уступает им.

В книгу литератора, этнографа, фольклориста и историка С. В. Фарфоровского, расстрелянного в 1938 г. «доблестными чекистами», вошли две повести о первобытных людях — «Ладожские охотники» и «Ледниковый человек». В издание также включен цикл «Из дневника этнографа» («В степи», «Чеченские этюды», «Фольклор калмыков»), некоторые собранные Фарфоровским кавказские легенды и очерки «Шахсей-вахсей» и «Таинственные секты».

Творчество писателя и историка Даниила Лукича Мордовцева (1830–1905) обширно и разнообразно. Его многочисленные исторические сочинения, как художественные, так и документальные, всегда с большим интересом воспринимались современным читателем, неоднократно переиздавались и переводились на многие языки.Из богатого наследия писателя в данный сборник включены два романа: «Господин Великий Новгород», в котором описаны трагические события того времени, когда Московская Русь уничтожает экономическое процветание и независимость Новгорода, а также «Державный Плотник», увлекательно рассказывающий о времени Петра Великого.
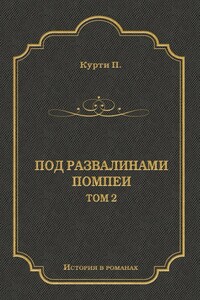
Пьер Амброзио Курти (годы жизни не установлены) – итальянский писатель, мастер исторического повествования, засвидетельствовавший своими произведениями глубокое знание древней римской жизни.В романе «Под развалинами Помпеи», окончание которого публикуется во втором томе данного издания, живой кистью художника нарисована картина римского общества в самый интересный и поучительный с исторической точки зрения период римской истории – в эпоху «божественного» императора Августа. На страницах романа предстанут перед читателем Цицерон, Гораций, Тибулл, Проперций, Федр, Овидий и другие классики Древнего Рима, а также императоры Август, Тиверий, Калигула, Клавдий и Нерон.

Эдуард Андреевич Гранстрем (1843–1918) — издатель, писатель, переводчик; автор многих книг для юношества. В частности, приключенческая повесть «Елена-Робинзон» была очень любима детьми и выдержала несколько переизданий, как и известная «почемучкина книжка» для девочек «Любочкины отчего и оттого». Широкую известность в России приобрели его книги «Столетие открытий в биографиях замечательных мореплавателей и завоевателей XV–XVI вв.» (1893), «Вдоль полярных окраин России» (1885). Гранстрем был замечательным переводчиком.

Пьер Алексис Понсон дю Террайль, виконт (1829–1871) — один из самых знаменитых французских писателей второй половины XIX века; автор сенсационных романов, которые выпускались невиданными для тех лет тиражами и были переведены на многие языки, в том числе и на русский. Наибольшую известность Понсону дю Террайлю принес цикл приключенческих романов о Рокамболе — человеке вне закона, члене преступного тайного общества, возникшего в парижском высшем свете. Оба романа, представленные в данном томе, относятся к другой его серии — «Молодость Генриха IV», на долю которой также выпал немалый успех.