Гений вчерашнего дня - [12]
А через год я предложил Параскеве руку и сердце.
Она посерьёзнела, сняв с запястья браслет, стала катать по столу.
— На вопрос: «Это кто — жена?» мужчины вначале отвечают: «Да, но мы не расписаны…», а потом: «Нет.
Но мы расписаны…» — Сложив пальцы в трубочку, она вдела браслет обратно. — От охлаждения, как от смерти, никуда не денешься…
— Сколько же нам осталось?
Взяв за руку, она стала гадать по ладони.
— Пока не явится разлучник. Я вижу, как у него лоснится кожа, а рот светится жёлтым пламенем…
С тех пор я не отпускал Параскеву из дома.
Было бабье лето, облака горбились, как дюны. Мы поужинали морскими устрицами, приправленными базиликом, и сменили стол на постель.
— Какие у тебя огромные глаза… А когда ты щуришься, они увеличиваются…
— Это как?
— От желания…
Кончал я бурно, выбрасывая семя, напоённое страстью, устрицами и базиликом, кричал, как раненая птица, так что соседи затыкали уши. И каждый раз передо мной всплывали все мои оргазмы, испытанные с женщинами, которых я выдумывал в одиноких постелях разных городов.
«Оргазм — это маленькая смерть, — думал я, — с ним также воскресает прошлое…» И представлял, как Параскева, кончая пронзительно долго, вспоминает своих любовников.
Параскева была ревнива и не прощала, когда ей изменяли во сне. Однажды я гулял в поле с пышной красавицей, которая сплела венок из одуванчиков, опустилась на колени и, умело переведя мою «стрелку» с шести часов на двенадцать, повесила на неё венок, как на гвоздь. Потом она сбросила одежду и раскинулась в медвяной траве, собирая в ложбинку на груди прозрачную росу, которую я пил, пустив в неё «корень». Красавица горячо меня обнимала, царапая на спине моё имя, так что я страшно удивился, когда она влепила мне пощёчину.
И тут я проснулся — на Параскеве, с которой, спящий, занимался любовью.
Днём мы голыми бродили по саду, заглядывали, точно в будущее, в колодец с бревенчатыми стенками, в котором всегда осень и который всегда глубже, чем кажется, рвали яблоки, выплёвывая косточки на шуршащих под ногами ужей, и чувствовали себя, как Адам и Ева.
А вечером шли на реку — глазеть на паром с пассажирами, похожими в тумане на души умерших, и слушать, как свистят сомы. А, вернувшись, кидали шестигранные кости, разыгрывая, кто будет сверху. «Лентяй!» — упрекала Параскева, проигрывая. За ночь она бывала то суккубом, то инкубом, но всегда — ангелом. Теперь я проводил больше времени без штанов, чем в штанах, и думал, что мне не нужен дом — я вполне могу жить в шатре её волос.
— Как ты пишешь? — однажды спросила она.
— Это просто. Складываешь ладони в шар и достаёшь оттуда слово за словом, будто рыб из воды. Но теперь, когда я не пишу, мне незачем таиться, храня бесполезные слова…
И я произнёс ей все слова, которые не написал, извлекая из ладоней.
Ребёнка мы не хотели. «Хватит одного», — косилась она на меня и по-матерински гладила седину мягкой ладонью.
Раз ночью в комнату влетела бабочка — мы узнали её по шуршанию крыл. «Моя бабушка говорила, что это — к смерти, — зашептала Параскева, — если бабочка чёрная — к мужской, белая — к женской… Не включай свет — лучше не знать!» Но я уже щёлкнул выключателем — на стекле бился серый мотылёк. Так я понял, что наш альков качается над бездной, что нам предстоит расставание. Ибо смерть в примете выступила аллегорией вечной разлуки — души и тела.
Шла наша третья осень, яблоки, падая, отсчитывали серые дни, а облака полосовали небо, которое делалось как картофельное пюре, расчерченное ложкой.
— Мы скоро расстанемся, — вздохнула Параскева. Поправив волосы, как воронье крыло, она застегнула на шее ожерелье и, подобрав цветастую юбку, взгромоздилась на высокий табурет. И тут в дверь постучали.
— Ужин заказывали? — мял в руках шапку рассыльный.
Он был черняв, как цыганский барон, с серьгой в ухе, в обтягивающих, словно тюленья кожа, рейтузах, под которыми, как ящерица в песке, проступал огромный член.
Я покачал головой.
— Но у меня записано, — загнусавил он, — прощальный ужин на две персоны с предметами разлуки…
И, слегка оттолкнув меня, протиснулся боком в дверь.
Отлетая в сторону, я вспомнил плечистого деда Параскевы.
Наши взгляды скрестились:
— Ты её брат?
— Все цыгане — братья…
Часы на стене пробили тринадцать раз. «Мы будем есть или закусывать?» — обнажая золотые зубы, расплылся гость, вынимая бутылку рябиновки. Он говорил быстро, разными голосами, будто за спиной у него стоял целый табор, и ещё быстрее, как фокусник из рукава, доставал фаршированную рыбу, маслины, три серебряных прибора.
Вместо свечей он зажёг дорожный фонарь, расставил бокалы, как маленькие фляжки, ножи в виде посоха, а на мокрую, как носовой платок от слёз, салфетку положил пустую переметную суму — для объедков. За столом он занял моё место так ловко, что я и не заметил. И стал таращиться на Параскеву.
— К любой двери можно подобрать ключ, — чесал он выпирающий член. — А к своей и подбирать не надо…
— Не надо… — эхом откликнулась Параскева.
За окном каркнула ворона, цветы на подоконнике завяли, а часы снова пробили тринадцать. Пока чернявый тараторил, я выпил бокал и неожиданно захмелел, так что, наполняя второй, пролил несколько капель на скатерть.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Социальные сети опутали нас, как настоящие. В реальности рядом с вами – близкие и любимые люди, но в кого они превращаются, стоит им войти в Интернет под вымышленным псевдонимом? Готовы ли вы узнать об этом? Роман Ивана Зорина исследует вечные вопросы человеческого доверия и близости на острейшем материале эпохи.
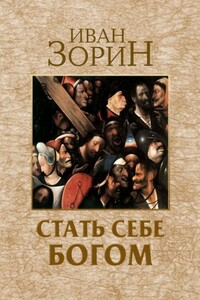
Размышления о добре и зле, жизни и смерти, человеке и Боге. Фантазии и реальность, вечные сюжеты в меняющихся декорациях.

В Интернетовской группе встретились люди с разными судьбами. Как им понять друг друга? Как найти общий язык?

Переписанные тексты, вымышленные истории, истории вымыслов. Реальные и выдуманные персонажи не отличаются по художественной достоверности.На обложке: Иероним Босх, Св. Иоанн Креститель в пустыне.

В книгу вошли небольшие рассказы и сказки в жанре магического реализма. Мистика, тайны, странные существа и говорящие животные, а также смерть, которая не конец, а начало — все это вы найдете здесь.

Строгая школьная дисциплина, райский остров в постапокалиптическом мире, представления о жизни после смерти, поезд, способный доставить вас в любую точку мира за считанные секунды, вполне безобидный с виду отбеливатель, сборник рассказов теряющей популярность писательницы — на самом деле всё это совсем не то, чем кажется на первый взгляд…

Книга Тимура Бикбулатова «Opus marginum» содержит тексты, дефинируемые как «метафорический нарратив». «Все, что натекстовано в этой сумбурной брошюрке, писалось кусками, рывками, без помарок и обдумывания. На пресс-конференциях в правительстве и научных библиотеках, в алкогольных притонах и наркоклиниках, на художественных вернисажах и в ночных вагонах электричек. Это не сборник и не альбом, это стенограмма стенаний без шумоподавления и корректуры. Чтобы было, чтобы не забыть, не потерять…».

В жизни шестнадцатилетнего Лео Борлока не было ничего интересного, пока он не встретил в школьной столовой новенькую. Девчонка оказалась со странностями. Она называет себя Старгерл, носит причудливые наряды, играет на гавайской гитаре, смеется, когда никто не шутит, танцует без музыки и повсюду таскает в сумке ручную крысу. Лео оказался в безвыходной ситуации – эта необычная девчонка перевернет с ног на голову его ничем не примечательную жизнь и создаст кучу проблем. Конечно же, он не собирался с ней дружить.

У Иззи О`Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег на колледж… Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, а потом и по всей стране. Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем ситуация усугубляется.

В пустыне ветер своим дыханием создает барханы и дюны из песка, которые за год продвигаются на несколько метров. Остановить их может только дождь. Там, где его влага орошает поверхность, начинает пробиваться на свет растительность, замедляя губительное продвижение песка. Человека по жизни ведет судьба, вера и Любовь, толкая его, то сильно, то бережно, в спину, в плечи, в лицо… Остановить этот извилистый путь под силу только времени… Все события в истории повторяются, и у каждой цивилизации есть свой круг жизни, у которого есть свое начало и свой конец.
