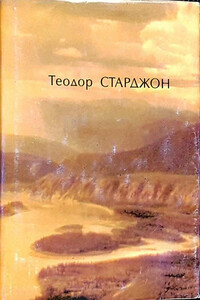Гении и маски. О книгах Петра Вайля - [4]
В отличие от нее, Вайль пытается изобразить Бродского полностью приемлемым для себя, превращает рассказ о нем в панегирик. Главные черты поэта в этом портрете — мужество и жизнелюбие. Вот о стихотворении «Пьяцца Маттеи»: «Как бесстрашно Бродский повторяет на разные лады слово „свобода”, изжеванное всеми идеологиями… Как радостно присоединяешься к этому чувству. „Пьяцца Маттеи” — может быть, лучший пример того, что настоящий поэт, о чем бы ни заговаривал, всегда говорит то, что хочет и должен сказать» (СПМ-628-29).
В последней фразе Вайль, поддаваясь эмоциональному порыву, выдает два секрета, которые в других рассказах умело и тактично скрывает: а) что он знает, какой поэт настоящий, а какой — нет, и б) ему известно, чту именно поэт должен сказать.
Все мы, конечно, имеем право на «своего Пушкина», «своего Бродского», «свою Цветаеву». Было бы нелепо, если бы одни читатели начали обвинять других в создании «неправильных» образов любимых поэтов. (Хотя миллионы разговоров на российских кухнях были переполнены именно такими обвинениями.) Понятно, что душевный и поэтический мир Бродского так неохватен, что любой портрет его требует как минимум монографии. И все же, в изображении Вайля, Бродский предстает хотя и узнаваемым, но лишенным какого-то важнейшего свойства, самой главной черты. Как если бы нам нарисовали слона — все правильно, четыре плотные ноги, огромный размер и вес, хвост, рот, глаза — но забыли бы нарисовать хобот и бивни. Или орла (ястреба?) — без клюва и крыльев. Или меч-рыбу — с обломанным мечом. У Бродского на портрете кисти Вайля отнято именно то свойство, которым он превосходит всех русских поэтов XX века: способность трагического восприятия Бытия, способность стоять лицом к лицу с Небытием и не впадать при этом в отчаяние.
Наткнувшись на это явное искажение знакомого облика, начинаешь припоминать, что и образы других поэтов в этой книге были лишены каких-то важных черт и штрихов. Будто кто-то прошелся по фотоальбому ножницами и бритвочкой, там и тут удаляя «ненужное». Увлеченный чтением пестрого и талантливого текста, ты проскакивал эти лакуны, но они накапливались в памяти, тревожили, манили вглядеться: что же такое автор так умело и старательно пытается спрятать от нас?
Поэтика умолчаний
Но гибчайшею русскою речью
Что-то главное он огибал…
Лев Лосев
В книге есть такой эпизод: журналисту Вайлю Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» поручила описать похороны дочери Толстого, Александры Львовны. Главный редактор прочел заметку и спросил: «Но почему вы не вставили самую красочную деталь? О том, что в могилу Александры Львовны положили ветку черемухи из Ясной Поляны?..» Вайль ответил: «Не вставил потому, что это показалось мне ужасной пошлостью» (СПМ-416).
«Хороший вкус» — в поступках, в выборе слов, в одежде, в любовных эскападах — часто выступает в книге как верховный арбитр в оценке человеческого поведения. Какое, например, безвкусие сказать о себе «я кушал» или «я блистал» (СПМ-397)! Автор рассказывает, как он истреблял «личное местоимение первого лица в своих писаниях, за ним гоняясь и изгоняя даже в ущерб стилю и грамматике…» (СПМ-217). (Тем не менее написал целую книгу исключительно про себя.) Все, что не попадает под определение «хорошего вкуса», рискует остаться за бортом, не будет даже упомянуто. (Хотя тот же Бродский однажды обронил в разговоре: «Хороший вкус необходим портным».) Понятно, что, коли любимый поэт допускал явную безвкусицу, Вайль считал своим долгом обойти этот печальный факт молчанием. Даже если «безвкусица» представляла собой какое-то чувство, в стихах — по представлениям Вайля — неуместное.
Советская идеология, обрабатывая образы классиков русской литературы, старательно убирала все черты и свойства, которые могли иметь негативный — с ее точки зрения — оттенок. Не следовало упоминать, что кто-то из наших несравненных гениев проигрывал большие суммы в карты или на рулетке, имел любовниц и незаконных детей, ревновал, завидовал, лгал, интриговал, проявлял трусость и подобострастие, принадлежал к «эксплуататорским классам» или — не дай Бог! — верил в Бога. Страстный борец с коммунистической идеологией Петр Вайль с неменьшей старательностью ретуширует портреты полюбившихся поэтов — но совершенно в другом направлении. От каких же «грехов», от какой безвкусной «черемухи» пытается очистить — оградить — обелить — освободить своих любимцев автор книги «Стихи про меня»?
Лишь постепенно, лишь припоминая другие стихи, поэмы, строчки включенных в сборник поэтов, начинаешь догадываться, какие чувства и черты попадали под цензорские ножницы. Главным образом удалялись — отодвигались на задний план — игнорировались — чувства негативные, болезненные, чреватые угрозой для любой жизнерадостности: стыд, страх, сострадание, гнев, возмущение. А также — в неожиданной солидарности с идеологией коммунистов — убиралась в тень вся сфера религиозных переживаний и исканий наших стихотворцев.
И действительно — что может быть более безвкусным, чем призыв «глаголом жечь сердца людей!»?
Забудем строчки Блока «Мы — дети страшных лет России — / забыть не в силах ничего».

Опубликовано в журнале "Звезда" № 7, 1997. Страницы этого номера «Звезды» отданы материалам по культуре и общественной жизни страны в 1960-е годы. Игорь Маркович Ефимов (род. в 1937 г. в Москве) — прозаик, публицист, философ, автор многих книг прозы, философских, исторических работ; лауреат премии журнала «Звезда» за 1996 г. — роман «Не мир, но меч». Живет в США.

Когда государство направляет всю свою мощь на уничтожение лояльных подданных — кого, в первую очередь, избирает оно в качестве жертв? История расскажет нам, что Сулла уничтожал политических противников, Нерон бросал зверям христиан, инквизиция сжигала ведьм и еретиков, якобинцы гильотинировали аристократов, турки рубили армян, нацисты гнали в газовые камеры евреев. Игорь Ефимов, внимательно исследовав эти исторические катаклизмы и сосредоточив особое внимание на массовом терроре в сталинской России, маоистском Китае, коммунистической Камбодже, приходит к выводу, что во всех этих катастрофах мы имеем дело с извержением на поверхность вечно тлеющей, иррациональной ненависти менее одаренного к более одаренному.
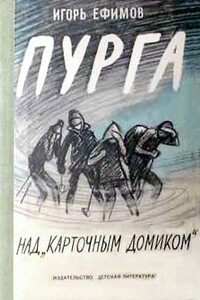
Приключенческая повесть о школьниках, оказавшихся в пургу в «Карточном домике» — специальной лаборатории в тот момент, когда проводящийся эксперимент вышел из-под контроля.О смелости, о высоком долге, о дружбе и помощи людей друг другу говорится в книге.

Умение Игоря Ефимова сплетать лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой.Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.
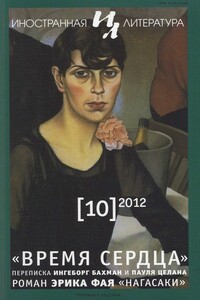
В рубрике «Документальная проза» — отрывки из биографической книги Игоря Ефимова «Бермудский треугольник любви» — об американском писателе Джоне Чивере (1912–1982). Попытка нового осмысления столь неоднозначной личности этого автора — разумеется, в связи с его творчеством. При этом читателю предлагается взглянуть на жизнь писателя с разных точек зрения: по форме книга — своеобразный диалог о Чивере, где два голоса, Тенор и Бас дополняют друг друга.
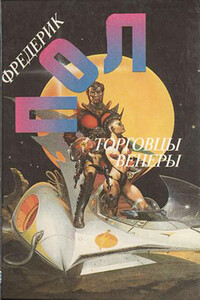
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«„Герой“ „Божественной Комедии“ – сам Данте. Однако в несчетных книгах, написанных об этой эпопее Средневековья, именно о ее главном герое обычно и не говорится. То есть о Данте Алигьери сказано очень много, но – как об авторе, как о поэте, о политическом деятеле, о человеке, жившем там-то и тогда-то, а не как о герое поэмы. Между тем в „Божественной Комедии“ Данте – то же, что Ахилл в „Илиаде“, что Эней в „Энеиде“, что Вертер в „Страданиях“, что Евгений в „Онегине“, что „я“ в „Подростке“. Есть ли в Ахилле Гомер, мы не знаем; в Энее явно проступает и сам Вергилий; Вертер – часть Гете, как Евгений Онегин – часть Пушкина; а „подросток“, хотя в повести он – „я“ (как в „Божественной Комедии“ Данте тоже – „я“), – лишь в малой степени Достоевский.

«Много писалось о том, как живут в эмиграции бывшие русские сановники, офицеры, общественные деятели, артисты, художники и писатели, но обходилась молчанием небольшая, правда, семья бывших русских дипломатов.За весьма редким исключением обставлены они материально не только не плохо, а, подчас, и совсем хорошо. Но в данном случае не на это желательно обратить внимание, а на то, что дипломаты наши, так же как и до революции, живут замкнуто, не интересуются ничем русским и предпочитают общество иностранцев – своим соотечественникам…».

Как превратить многотомную сагу в графический роман? Почему добро и зло в «Песне льда и огня» так часто меняются местами?Какова роль приквелов в событийных поворотах саги и зачем Мартин создал Дунка и Эгга?Откуда «произошел» Тирион Ланнистер и другие герои «Песни»?На эти и многие другие вопросы отвечают знаменитые писатели и критики, горячие поклонники знаменитой саги – Р. А. САЛЬВАТОРЕ, ДЭНИЕЛ АБРАХАМ, МАЙК КОУЛ, КЭРОЛАЙН СПЕКТОР, – чьи голоса собрал под одной обложкой ДЖЕЙМС ЛАУДЕР, известный редактор и составитель сборников фантастики и фэнтези.