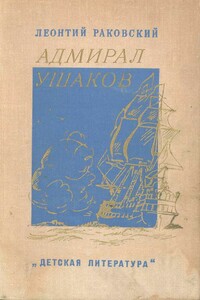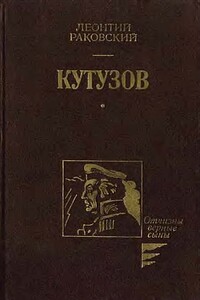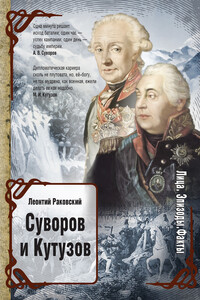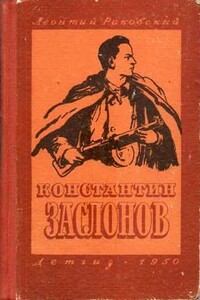И вот в дверях показался гроб.
Толпа зашелестела, точно ветер прошел по кустам, закрестились, кто-то запричитал, кто-то воскликнул: «О, Господи!»
Смотрели, не отрываясь, как гроб подымали на колеcницу, как над гробом устанавливали великолепный, малинового бархата с золотым фигурным подзором[121] балдахин на восьми столбах.
Шнуры поддержали офицеры.
Раздалась команда отомкнуть штыки «на погребение».
И оркестры полковой музыки заиграли печальный марш.
Траурная процессия медленно тронулась к Александро-Невской лавре.
Он жив в смерти!
Ломоносов
Огнев и Зыбин шли в густой, многотысячной толпе, которая провожала генералиссимуса Суворова в его последний путь. Улицы были запружены народом. Все окна, балконы и крыши домов усеяны людьми. Мальчишки, точно галчата, сидели на деревьях.
Огнев шел, задумчиво глядя себе под ноги. Зыбин говорил с каким-то чиновником, обсуждали все то же, всем известное и всех возмущающее: что царь велел отдавать на похоронах почести Суворову не как генералиссимусу, а лишь как фельдмаршалу. Оттого нигде не было видно гвардии.
Огнев задумался – не слыхал и не видал ничего. И вдруг Зыбин толкнул его в бок и с ужасом зашептал:
– Гляди: царь!
Огнев поднял голову.
Подходили к Невскому. На углу близ Гостиного ряду, верхом на лошади, со шляпой в руке, ждал Павел I.
Когда толпа, в которой шли Огнев и Зыбин, поравнялась с местом, где стоял Павел I, его уже не было: пропустив мимо себя гроб, царь поскакал прочь, к Неве.
Огнев только покосился в ту сторону.
В воротах Александро-Невской лавры траурная колесница остановилась, высокий балдахин мешал проехать.
– Не проходит в ворота!
– Не пройдет! – оживленно загудели кругом.
– Пройдет! Наш батюшка Суворов всюду проходил! – звонко сказал Зыбин и уже заработал локтями, пробираясь вперед, чтобы помочь.
Но колесницу подтолкнули те, кто оказался ближе. Она с трудом въехала в узкие монастырские ворота. Печальное, хватающее за душу заупокойное «святый Боже» с особенной четкостью раздавалось под этими сводами. Звучало неотвратимо и беспощадно.
Слезы брызнули у Огнева из глаз. Он рванулся к колеснице. Рванулся вперед, за Суворовым, как всю жизнь привык следовать за ним. Зыбин не отставал от товарища.
Но у самых ворот дюжий полицейский чин, в треуголке и перчатках до локтей, ударил Огнева в грудь.
– Куда, кислая шерсть? Ос-с-сади назад! – прошипел он, тараща глаза.
Огнев и Зыбин оторопело подались назад.
Мимо них в узкие ворота хлынули толпой господа.
Протягивая полицейскому билетики с траурной каемкой и прижимая к груди треуголки, теснились, лезли какие-то важные, с орденами на шее чиновники, надушенные, напудренные дамы в трауре. Те, кого так не жаловал при жизни батюшка Александр Васильевич.
Цепь нахальных ражих полицейских мигом – от одного к другому – оттерла Огнева и Зыбина к краю площади, туда, где толкался «подлый» народ: замашные рубахи, чуйки, бабьи платки.
Удрученный Огнев вытирал ладонью лицо.
– Всю жизнь с нами был. С солдатом. С простым народом. Сам простой был. А тут оттерли нас… – вырвалось у Зыбина, который стоял, растерянно моргая глазами.
– Ничего, Алешенька, – ответил Огнев. Голос у него дрожал от негодования. – Нашего батюшку Суворова от русского народу не отделишь!.. Он всегда был и будет с нами!
1938–1941
1944–1946