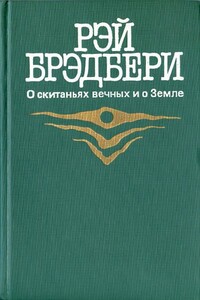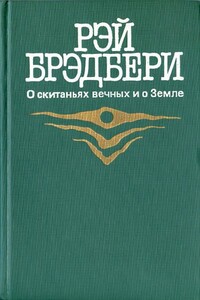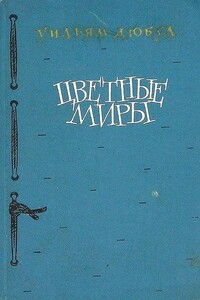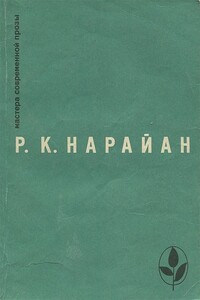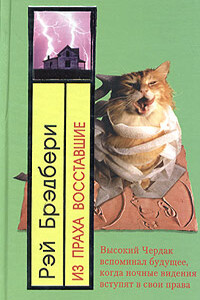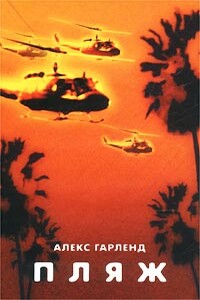Я взял ее за руку и немного задержал в своей.
— Жаль, что это не я. Мы с вами, наверно, многое смогли бы вспомнить.
— Может быть, даже слишком. — У нее по щеке проползла слеза, и она отстранилась. — Ну, нельзя объять необъятное.
— Это верно — нельзя, — повторил я и бережно отпустил ее руку.
Почувствовав нежность в моем движении, она решилась на последний вопрос.
— А это точно не вы?
— Хороший, видно, парень был этот Чарли.
— Лучше всех, — ответила она.
— Ну что ж, — проговорил я, помолчав, — прощайте.
— Нет, до свидания.
Развернувшись, она побежала наверх и с такой скоростью взлетела по лестнице, что едва не упала. На площадке она внезапно обернулась — глаза у нее сияли — и помахала. Я не собирался отвечать, но рука сама взмыла вверх.
Потом я целых полминуты стоял на месте и не мог пошевелиться, будто прирос к тротуару. С ума сойти, подумал я, угораздило же меня сломать то хорошее, что было в жизни.
В бар я вернулся уже перед закрытием. Почему-то пианист еще не ушел; видно, его не слишком тянуло домой.
После двойного бренди, сидя за кружкой пива, я сказал ему:
— Играйте что угодно, только не это: «Но если она осталась нынче одна, пусть ей Судьба укажет путь ко мне».
— Что это за песня? — спросил пианист, не снимая рук с клавиш.
— Точно не помню, — ответил я. — Что-то там… про эту… как же ее? Ах, да. Салли.