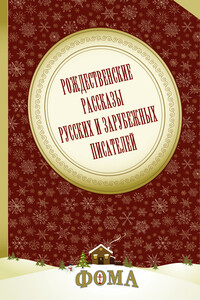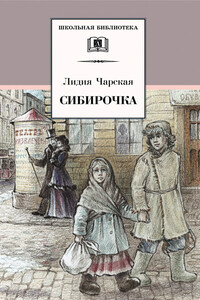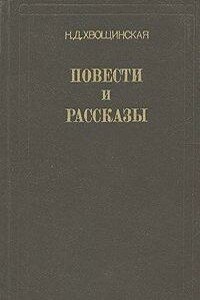— говорит им мать и улыбается обоим сразу, но глаза ее, помимо воли, останавливаются с большею лаской и нежностью на лице старшего сына, уплетающего за обе щеки сладкую, тающую во рту алву.
— Сегодня урусы два раза кидались на штурм, — говорит он, усиленно работая зубами. — Да что толку? Отбили их наши. Слышишь, снова палят они!
Действительно, новый залп пушек громовым ударом пронесся по горам и замер где-то вдали, несколько раз повторенный эхом. Точно горный шайтан обменялся приветствиями с черными джинами бездн и ущелий.
— Сегодня на совещании старики говорили, что сардар хочет идти на Ахверды-Магому к высотам, — неожиданно вмешивается в разговор Кази-Магома. — Наши их допекли. Говорят, из гор спешат новые наши отряды. Вот бы пробиться им сюда! Небось много бы отправили тогда в ад неверных…
И маленькие глазки его хищно сверкают как у голодного волчонка.
— Мать, спой мне песню, — просит Джемалэддин, поднимая упавшую на пол джианури и заглядывая в лицо Патимат просящими глазами.
Той уже теперь не до песен. Залпы все усиливаются и усиливаются с каждой минутой, несмотря на подступающую темноту ночи. В промежутках между ними слышатся дикие крики горцев и пение их священного гимна. Нет больше сомнений: там, внизу, у башни идет рукопашный бой. Там штурмуют Сурхай ненавистные урусы. «Аллах великий, помоги джигитам!» — шепчет она набожно. Потом разом хватает джианури и, чтобы отвлечь внимание детей от боевого шума, живо настраивает его и поет во весь голос:
В ущелье над утесом горным
В ауле спит моя семья…
Прощайте все. С конем проворным
С зарей уйду к джигитам я!
Мы полетим в набег кровавый,
Врага трусливого спугнем,
Покроем имя громкой славой
Иль, пораженные, умрем.
Отец мой уздень был могучий,
Убит гяуром старший брат…
Мы налетим на русских тучей,
Великий славя газават…
Топот нескольких коней и крики, огласившие узкую улицу аула, внезапно прервали песню Патимат. Дверь быстро распахнулась, и старуха Баху, мать Шамиля, поспешно вошла в саклю.
— Не вовремя расчирикалась, ласточка, — сурово нахмурившись, проворчала она. — Урусы взяли Сурхай. Будь они прокляты!
Кази-Магома дико взвизгнул, услышав слова бабушки, и зарылся головой в чахлан матери. Он весь трясся от страха. Джемалэддин вздрогнул точно конь, впервые испробовавший нагайки, и ринулся к двери.
— Куда, куда, орленок? — кричали ему в один голос мать, тетка и бабушка. Но он и внимания не обратил на их крики… Ему во что бы то ни стало надо было узнать истину. Надо было узнать — впрямь ли взяли русские башню?.. Вся кровь его кипела. Если правду сказала бабушка, то дело плохо. Сурхай — ворота Ахульго. Возьмут Сурхай — возьмут Ахульго. Надо торопиться… Он сегодня же отточит шашку и заложит в газыри новые патроны… Потом встанет у дверей сакли и скажет матери:
— Не бойся, ласточка, я защищу тебя!
Да, он защитит ее, бабушку и Кази! Он старший в роде! На его обязанности лежит это.
А может быть, все — одна неправда? Бабушка Баху туга на ухо, и все это могло легко послышаться ей. Ложный страх, и ничего больше!
Сердечко мальчика шибко-шибко бьется в груди. Ему не за себя страшно, нет. Боязнь за мать, за ее участь наполняет все мысли Джемалэддина. Не помня себя, бежит он на площадь по узкой, кривой улице. Аллах великий, сколько народу собралось уже там! Вон и Хажди-Али, и старик Джэддин, их воспитатель, и Кибит-Магома, и все наибы и старейшины. Что, если они увидят здесь его — Джемалэддина? Дети имама не смеют показываться среди народа… Достанется ему от отца!
Быстро юркает за спины взрослых крошечная фигурка малыша, для большей предосторожности нахлобучившего на самые глаза папаху… В сгустившихся сумерках вечера едва ли можно заметить его. Зато он сам все видит, все замечает.
Вот выходит из мечети его отец и бывшие с ним на совещании алимы.
В эту самую минуту из толпы выезжает только что прибывший из Сурхая мюрид, быстро спешивается и подходит к имаму. Джемалэддин знает его. Это — Гассан, вновь посвященный в мюриды. Еще недавно повелитель отправил его в Сурхаеву башню в подмогу остальным. Из груди Гассана сочится кровь. Он ранен в плечо, и рука его безжизненно болтается вдоль стана.
— Великий имам, — говорит он глухим голосом, — клянусь кораном, мы, твои верные слуги, храбро бились, отстаивая башню. Но к урусам подходили все новые и новые воины, их было много, как звезд на небе… а нас, твоих верных мюридов, лишь горсть; они все перебиты гяурами, лишь я один успел прорваться сюда, чтобы возвестить тебе горе: башня взята.
— Проклятие гяурам! — грозно пронесся над толпою мощный голос имама. — Гнев Аллаха тяготеет над нами! Заслуженная кара постигла нас… Где Самит? Исполнил ли ты повеление и найдены ли преступившие законы веры?
В одну минуту из толпы вынырнул Самит.
— Один преступник найден, повелитель, и ждет приговора! — произнес он, почтительно склонясь пред имамом.
Толпа расступилась, и Джемалэддин увидел связанного по рукам человека, выступившего вперед, с трудом волочащего скованные ноги. О бок с ним шел палач в черной тряпке в виде чалмы, обматывающей папаху, и с обнаженной секирой в руке.
Мирза[60] имама обратился с речью к народу, в которой пояснил вину подсудимого: он не молился Аллаху, не совершал обязательных омовений, не исполнял всех правил поста и молитвы, которые предписаны учением тариката. Самит все это узнал точно, и виновный даже не оспаривает своей вины.