Гапон - [7]
Так или иначе, Георгию пришлось зарабатывать частными уроками, главным образом в семьях священников. Летом он часто жил у своих учеников, что дало ему возможность «познакомиться с внутренней жизнью русского духовенства», которая его разочаровала (пьянство, своекорыстие…).
Еще одним эпизодом семинарского периода стала болезнь: тиф, перешедший в менингит. («Я болел долго, и когда отец приехал навестить меня в лазарете, то сначала не узнал меня».) Ей Гапон придает важное, рубежное значение в своей духовной жизни.
Вообще мемуары Гапона — автобиография действующего (и находящегося в зените известности) общественно-политического деятеля. Жанр особый, со своими законами. Так что неудивительно, что Георгий Аполлонович всем своим действиям с самой ранней молодости дает идеологическую мотивацию, все превратности, случавшиеся с ним, рисует как гонения за правду, а все житейские наблюдения сводит к «народным страданиям».
Не всегда можно проверить эти утверждения — например, о том, что юноша, в ущерб учебным занятиям, посвящал свое время «больным и босякам», беседуя с ними об их нуждах (чем он, сам безденежный, мог бы им помочь?). Не приходится, конечно, сомневаться, что Гапон-семинарист читал — может быть, не очень обильно, но сочувственно и увлеченно — базовые тексты начинающего «передового интеллигента»: инструктивную критику Белинского — Чернышевского — Добролюбова — Писарева, стихи Некрасова и его эпигонов, ну, и заодно избранные произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и пр., воспринятые через призму «передовой критики». Но в этом отношении он едва ли серьезно отличался от многих своих товарищей. Русская левая интеллигенция была тоже церковью своего рода: со своим священным писанием, своими святыми и мучениками. Семинарские выпускники, которым учение этой «церкви» оказывалось ближе православия, естественно входили в ее «клир», взяв с собой из прежней жизни не только приличные по объему знания (об этом мы уже упоминали), но и особый (догматический, грубо говоря) навык отношения к текстам и идеям.
Нет сомнения: к старшим курсам семинарии Гапон уже не стремился к духовной карьере. Выбор был, казалось бы, сделан в пользу интеллигентских ценностей. Толстовство было закономерным этапом на пути к этому выбору.
Однако судьба распорядилась иначе.
Гапон описывает эти события так:
«Когда, по окончании семинарии, возник вопрос о моем поступлении в духовную академию, я сказал, что предпочитаю поступить в университет, но когда я получил свой аттестат, то увидел, что поведение мое аттестовано так дурно, что о поступлении в университет нечего было и думать».
И на сей раз документы позволяют скорректировать рассказ Гапона. Гапон — всего лишь! — получил по поведению «4», а не «5». Суть, однако же, была в том, что он был признан окончившим семинарию не по первому, а по второму разряду. «Перворазрядники» именовались «студентами семинарии», «второразрядники» — «богословами». Последние могли преподавать в духовных училищах, могли быть рукоположены в дьяконы, в принципе — и в священники. Но права продолжать обучение ни в духовных, ни в светских учебных заведениях у них не было.
За что же такая обида?
Гапона, кажется, подвело как раз страстное желание во что бы то ни стало получить диплом первого разряда.
Он и на старших курсах (несмотря на болезни и отнимавшие его время уроки) хорошо успевал по всем предметам, кроме трех: церковного пения (хотя петь он любил), алгебры и — догматического богословия. Склад ума, чуждый абстракций, или отголоски толстовских увлечений? Если верить Гапону, он спорил с преподавателем догматического богословия В. П. Щегловым «о естестве Христа». Педагогу это, конечно, понравиться не могло.
И вот накануне экзамена семинарист явился к преподавателю и прямо спросил его: «Какие вы мне годовые баллы поставите по догматическому и нравственному богословию?»
Дальше разговор (согласно докладу ректора, протоиерея Ивана Христофоровича Пичеты педагогическому совету семинарии) шел так:
«Озадаченный преподаватель ответил: „какие следует“. Тогда Гапон сказал: „если вы мне не выставите 4 и я не попаду в первый разряд, то погублю и себя и вас“. Когда преподаватель сообщил мне о дерзкой выходке Гапона, я не счел нужным входить с ним ни в какие объяснения, но дал заметить в присутствии всего класса, что неблаговидные поступки и грубые выходки не останутся без должного взыскания. Я надеялся, что он загладит свою вину и, сознавшись в грубости и дерзости, извинится пред г. Щегловым. Но что-же он сделал? 7-го мая, в день экзамена по догматическому богословию, мне принесли от него письмо, в котором извещает, что „к сожалению не могу сегодня держать экзамен по догматике вследствие разстройства и физических и душевных сил“. Однако на все последующие экзамены он являлся и не обнаруживал болезненного вида; не показался он таковым и на экзамене по догматическому богословию, который произведен был ему в моем присутствии и который оказался только удовлетворительным. В промежутке между экзаменами он спрашивал меня, какие ему годовые баллы будут выставлены по догматическому и нравственному богословию, и просил, чтобы я „помирил его с г. Щегловым“, который якобы неправильно понял его слова, не заключавшие в себе никакой угрозы. Я поговорил серьезно с Гапоном о неблаговидности его поведения и сказал ему, что он сам должен позаботиться о испрошении прощения у оскорбленного им преподавателя, но он не постеснялся сказать мне, что ему самолюбие не позволяет это сделать. Был ли Гапон у г. Щеглова и в какой форме извинялся — я не знаю; знаю только, что он не имеет расположения к духовному званию и домогается первого разряда для поступления в Томский университет».

Во все времена самые большие проблемы для секретных служб создавали агенты-провокаторы, ибо никогда нельзя было быть уверенным, что такой агент не работает «на два фронта». Одним из таких агентов являлся Евгений Филиппович Азеф (1869–1918), который в конечном счете ввел в заблуждение всех — и эсеровских боевиков, и царскую тайную полицию.Секретный сотрудник Департамента полиции, он не просто внедрился в террористическую сеть — он ее возглавил. Как глава Боевой организации эсеров, он организовал и успешно провел ряд терактов, в числе которых — убийство министра внутренних дел В. К. Плеве и московского губернатора великого князя Сергея Александровича.
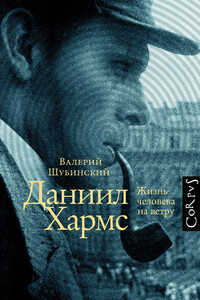
Даниил Хармс (Ювачев; 1905–1942) – одна из ключевых фигур отечественной словесности прошлого века, крупнейший представитель российского и мирового авангарда 1920-х–1930-х годов, известный детский писатель, человек, чьи облик и образ жизни рождали легенды и анекдоты. Биография Д. Хармса написана на основе его собственных дневников и записей, воспоминаний близких ему людей, а также архивных материалов и содержит ряд новых фактов, касающихся писателя и его семьи. Героями книги стали соратники Хармса по ОБЭРИУ (“Объединение реального искусства”) – Александр Введенский, Николай Олейников и Николай Заболоцкий и его интеллектуальные собеседники – философы Яков Друскин и Леонид Липавский.
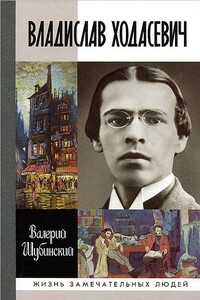
Поэзия Владислава Ходасевича (1886–1939) — одна из бесспорных вершин XX века. Как всякий большой поэт, автор ее сложен и противоречив. Трагическая устремленность к инобытию, полное гордыни стремление «выпорхнуть туда, за синеву» — и горькая привязанность к бедным вещам и чувствам земной юдоли, аттическая ясность мысли, выверенность лирического чувства, отчетливость зрения. Казавшийся современникам почти архаистом, через полвека после ухода он был прочитан как новатор. Жестко язвительный в быту, сам был, как многие поэты, болезненно уязвим.
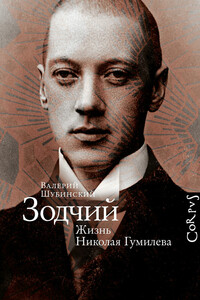
Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности.
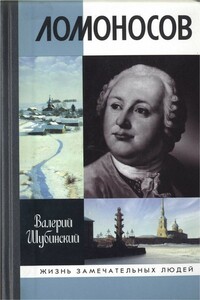
Первая в постсоветское время биография ученого-энциклопедиста и поэта, одного из основоположников русской культуры Нового времени. Используя исторические исследования, свидетельства современников, архивные документы, автор стремится без идеализации и умолчаний воссоздать яркую, мощную личность М. В. Ломоносова в противоречивом, часто парадоксальном контексте России XVIII века. При всем разнообразии занятий Ломоносова — создателя нового русского литературного языка и классической системы стихосложения, химика, оптика, океанографа, исследователя атмосферного электричества, историка, астронома, администратора и даже участника политических интриг — в центре его деятельности лежало стремление к модернизации страны, унаследованное от Петровской эпохи.

21 мая 1980 года исполняется 100 лет со дня рождения замечательного румынского поэта, прозаика, публициста Тудора Аргези. По решению ЮНЕСКО эта дата будет широко отмечена. Писатель Феодосий Видрашку знакомит читателя с жизнью и творчеством славного сына Румынии.

В этой книге рассказывается о жизни и деятельности виднейшего борца за свободную демократическую Румынию доктора Петру Грозы. Крупный помещик, владелец огромного состояния, широко образованный человек, доктор Петру Гроза в зрелом возрасте порывает с реакционным режимом буржуазной Румынии, отказывается от своего богатства и возглавляет крупнейшую крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». В тесном союзе с коммунистами он боролся против фашистского режима в Румынии, возглавил первое в истории страны демократическое правительство.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Лина Кавальери (1874-1944) – божественная итальянка, каноническая красавица и блистательная оперная певица, знаменитая звезда Прекрасной эпохи, ее называли «самой красивой женщиной в мире». Книга состоит из двух частей. Первая часть – это мемуары оперной дивы, где она попыталась рассказать «правду о себе». Во второй части собраны старинные рецепты натуральных средств по уходу за внешностью, которые она использовала в своем парижском салоне красоты, и ее простые, безопасные и эффективные рекомендации по сохранению молодости и привлекательности. На русском языке издается впервые. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Повествование описывает жизнь Джованны I, которая в течение полувека поддерживала благосостояние и стабильность королевства Неаполя. Сие повествование является продуктом скрупулезного исследования документов, заметок, писем 13-15 веков, гарантирующих подлинность исторических событий и описываемых в них мельчайших подробностей, дабы имя мудрой королевы Неаполя вошло в историю так, как оно того и заслуживает. Книга является историко-приключенческим романом, но кроме описания захватывающих событий, присущих этому жанру, можно найти элементы философии, детектива, мистики, приправленные тонким юмором автора, оживляющим историческую аккуратность и расширяющим круг потенциальных читателей. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В этой книге рассказано о некоторых первых агентах «Искры», их жизни и деятельности до той поры, пока газетой руководил В. И. Ленин. После выхода № 52 «Искра» перестала быть ленинской, ею завладели меньшевики. Твердые искровцы-ленинцы сложили с себя полномочия агентов. Им стало не по пути с оппортунистической газетой. Они остались верными до конца идеям ленинской «Искры».

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.