Г. Ф. Лавкрафт: против человечества, против прогресса - [25]
«Что до пуританских запретов, то с каждым днем я ими понемногу все более восхищаюсь. Это попытки к тому, чтобы сделать из жизни произведение искусства— чтобы сформировать образец красоты в том свинарнике, каким является животное существование, — и из этого пробивается ненависть к жизни, которой, отмечена душа самая глубокая и самая восприимчивая. Я так устал слушать поверхностных ослов, бушующих против пуританизма, что, думаю, я стану пуританином. Пуританствующий интеллектуал — это идиот, почти такой же, как и антипуританствующий — но пуританин по тому, как он ведет себя в жизни, — это единственный человеческий тип, который можно искренне уважать. Я не питаю ни почтения, ни какого-то бы ни было уважения ни к одному человеку, который не живет в воздержании и чистоте».
На закате дней ему случится обнаруживать сожаления, горькие порой, перед лицом одиночества и краха его жизни. Но эти сожаления остаются, если можно так выразиться, теоретическими. Он отчетливо восстанавливает в памяти те периоды своей жизни (конец отрочества, короткий и решающий промежуток женитьбы), когда он мог бы свернуть с этой дороги к тому, что называется счастьем. Но он знает, что, возможно, он не был в состоянии повести себя по-другому. И в конце концов он считает, как Шопенгауэр, что «не так-то плохо отделался».
Он мужественно встретит смерть. Заболев раком кишечника, который распространился на все органы тела, 10 марта 1937 года он был доставлен в «Больницу имени Джейн Браун». Он поведет себя как образцовый больной, вежливый, любезный, со стоицизмом и куртуазностью, что произведет впечатление на медицинских сестер, несмотря на его острейшие физические страдания (к счастью, приглушаемые морфием). Он свершит формальности агонии со смирением, если не с тайным удовлетворением. Жизнь, ускользающая из его телесной оболочки, его старинная врагиня; он ее хулил, он с ней бился; у него не вырвется ни слова сожаления. И 15 марта 1937, без дальнейших происшествий, он отходит.
Как говорят биографы, «Лавкрафт умер, его творение родилось». И действительно, только сейчас мы начинаем прозревать истинное место Лавкрафта, то же или превыше, чем у Эдгара По, во всяком случае решительно уникальное. У него порой было чувство, перед лицом повторяющегося краха его литературного творчества, что жертвование всей его жизни в конечном счете было бесполезным. Мы можем сегодня судить об этом по-другому; мы, те, для кого он стал главным первопроходцем другой вселенной, лежащей далеко за пределами человеческого опыта и тем не менее сказывающейся очень точным эмоциональным воздействием.
Этому человеку, которому не задалось жить, в конце концов задалось писать. Он хватил лиха. Он потратил годы. Помог ему Нью-Йорк. Он, такой мягкий, такой куртуазный, там обнаружил ненависть. По возвращении в Провиденс он сочинил великолепные новеллы, лихорадочно-трепещущие, как магические распевы, безошибочно-точные, как анатомирование. Драматическая структура «старших текстов» внушительна по своему богатству; повествовательные приемы отточены, новы, дерзки; возможно, всего этого не было бы достаточно, не чувствуй мы в средоточии целого давления внутренней всепожирающей силы.
Всякая великая страсть, будь то любовь или ненависть, порождает в конце концов подлинное произведение. Можно об этом сожалеть, но нужно это признать: Лавкрафт был скорее на стороне ненависти; ненависти и страха. Вселенная, интеллектуально им постигаемая как безразличная, эстетически-чувственно становится враждебной. Собственное его существование, которое могло бы оказаться не более чем вереницей банальных разочарований, становится хирургической операцией и перевертышем торжественной мессы.
Творческий акт его зрелости сохранил верность физической прострации его юности, преобразив ее. В этом — и глубинная тайна гения Лавкрафта, и чистый исток его поэзии: ему удалось трансформировать свое отвращение к жизни в движущую враждебность.
Дать альтернативу жизни во всех ее видах, составить постоянную оппозицию, постоянный иск против жизни — такова высочайшая миссия поэта на этой земле. Говард Филлипс Лавкрафт эту миссию выполнил.

Знаменитый Мишель Уэльбек, лауреат многих премий, в том числе Гонкуровской, автор мировых бестселлеров «Элементарные частицы», «Платформа» «Возможность острова», «Покорность», удивил всех, написав камерный роман о раскаянии, сожалении и утраченной любви. Сорокашестилетний Флоран-Клод Лабруст терпит очередной крах в отношениях с любовницей. Функционер в сфере управления сельским хозяйством и романтик в душе, он бессильно наблюдает за трагедией разоряющихся французских фермеров, воспринимая это как собственное профессиональное фиаско.

Французский прозаик и поэт Мишель Уэльбек – один из самых знаменитых сегодня писателей планеты. Каждая его книга – бестселлер. После нашумевших «Элементарных частиц» он выпустил романы «Платформа», «Возможность острова», многочисленные эссе и сборники стихов. Его новый роман «Карта и территория» – это драма современного мира, из которого постепенно вытесняется человек. Рядом с вымышленным героем – художником Джедом Мартеном – Уэльбек изобразил и самого себя, впервые приоткрыв для читателя свою жизнь. История Джеда – его любви, творчества, отношений с отцом – могла бы быть историей самого автора, удостоенного за «Карту и территорию» Гонкуровской премии 2010 года.

«Возможность острова» — новый роман автора мировых бестселлеров «Элементарные частицы» и «Платформа». Эта книга, прежде всего, о любви. Сам Уэльбек, получивший за неё премию «Интералье» (2005), считает её лучшим из всего им написанного. Заявив в одном из интервью, что он «не рассказчик историй», Уэльбек, тем не менее, рассказывает здесь, в свойственной ему ироничной манере, множество нетривиальных историй, сплетающихся в захватывающий сюжет: о тоталитарных сектах, о шоу-бизнесе и о судьбе далёких потомков человечества, на которую проецируются наши сегодняшние эмоции и поступки.

Блестящий и непредсказуемый Мишель Уэльбек — один из самых знаменитых писателей планеты, автор мировых бестселлеров «Элементарные частицы», «Платформа», «Возможность острова», «Карта и территория» (Гонкуровская премия 2010 года). Его новый роман «Покорность» по роковому совпадению попал на прилавки в день кровавого теракта в журнале «Шарли Эбдо», посвятившем номер выходу этой книги. «Покорность» повествует о крахе в недалеком будущем современной политической системы Франции. Сам Уэльбек определил жанр своего романа как «политическую фантастику».

Мишель Уэльбек (род. 1958) – поэт, эссеист, прозаик, самый полемичный и самый продаваемый во Франции и в Европе автор. На родине его называют культовым писателем и «Карлом Марксом секса». Каждая его книга – бестселлер. Роман «Элементарные частицы» (Les particules elementaires, 1998), переведенный на 26 языков мира, номинировался на Гонкуровскую премию и удостоен «Гран-при» в области литературы и престижной Дублинской премии. Роман «Платформа» (Ptateforme, 2001) получил приз Парижского кинофестиваля 2002 г.
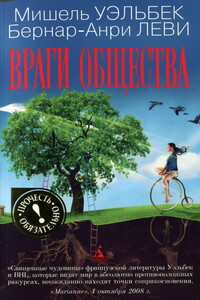
«Священные чудовища» французской литературы Уэльбек и BHL, которые видят мир в абсолютно противоположных ракурсах, неожиданно находят точки соприкосновения.«Marianne», 4 октября 2008 г.Враги общества — переписка между Мишелем Уэльбеком и Бернаром-Анри Леви. Этот сборник, составленный из 28 писем, вышел в издательствах Flammarion и Grasset в 2008.Темы, которые авторы затрагивают в своих письмах друг другу, простираются от литературы и литературной карьеры до философии и религии, от места художника в современном обществе до перспектив развития современного общества.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».
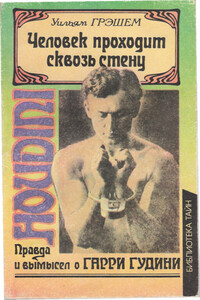
Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.