Фуко - [54]
Если складка и разглаживание питают не только концепции Фуко, но и его стиль, то причина этого кроется в том, что они образуют археологию мысли. Возможно, не столь уж и удивительно, что встреча Фуко с Хайдеггером происходит как раз на этой территории. Речь идет, скорее, о встрече, чем о влиянии, в той мере, в какой происхождение, применение и предназначение складки и разглаживания у Фуко и у Хайдеггера различны. Согласно Фуко, речь идет о таких соотношениях сил, при которых региональные силы сталкиваются то с силами возвышения до бесконечного (разглаживание), так что вместе они образуют форму-Бога, — то с силами конечного (складка), вместе составляя форму-Человека. Это не столько хайдеггеровская, сколько ницшеанская история, история, возвращающая к Ницше, или возвращающая к жизни. "Бытие существует лишь потому, что существует жизнь… Таким образом, именно опыт жизни выступает как самый общий закон живых существ… однако онтология эта обнаруживает вовсе не то, что лежит в основе всех этих существ, но скорее то, что облекает их на мгновение в столь хрупкую форму…"[10].
III. К формации будущего?
То, что всякая форма бренна, не вызывает сомнения, поскольку она зависит от соотношений сил и их мутации. Из Ницше делают философа, провозгласившего смерть Бога, и тем самым искажают его мысль. Последним философом смерти Бога был Фейербах: он показал, что поскольку Бог всегда был всего лишь разглаженной формой человека, то человек должен сгибать и свертывать Бога. Но для Ницше это уже была старая история; а поскольку старые истории всегда существуют во множестве вариантов, Ницше и приумножает количество версий смерти Бога, как вариации на тему общепризнанного факта, причем все они комичны или юмористичны. Но что его действительно интересует, так это смерть человека. Пока существует Бог, то есть пока функционирует форма-Бог, человека еще нет. Однако когда появляется форма-Человек, она появляется уже понимая смерть человека, причем по меньшей мере тремя способами. С одной стороны, где человек в отсутствие Бога мог бы обнаружить гаранта своей идентичности?[11]. С другой стороны, разве сама форма-Человек образуется не в складках конечности: в человека она влагает смерть (и, как мы видели, не столько в духе Хайдеггера, сколько в духе Биша, который мыслил о смерти в модусе "насильственной смерти")[12]. Наконец сами силы конечности способствуют тому, чтобы человек мог существовать только через рассредоточивание планов организации жизни, через рассеивание языков, через несходство способов производства, которые подразумевают, что только "критика познания" является "онтологией уничтожения живых существ" (не только палеонтологией, но и этнологией)[13]. Но что имеет в виду Фуко, когда говорит, что по смерти человека не о чем плакать?[14] В самом деле, была ли эта форма хорошей? Сумела ли она обогатить или хотя бы сохранить силы в человеке: силу жизни, силу языка и силу труда? Уберегла ли она живых людей от насильственной смерти? Следовательно, без конца повторяющийся вопрос звучит так: если силы в человеке образуют форму не иначе, как вступая во взаимоотношения с силами внешнего, то с какими новыми силами рискуют они вступить в отношения теперь, и какая новая форма, которая уже не будет ни Богом, ни Человеком, может из этого получиться? Вот правильная постановка проблемы, которую Ницше назвал "сверхчеловеком".
Это проблема, при разборе которой можно удовлетвориться лишь весьма сдержанными соображениями, чтобы не опуститься до уровня комикса. Фуко подобен Ницше: он в состоянии указать лишь наброски и пока еще не функциональные, а в эмбриологическом смысле[15]. Ницше писал: человек заключил жизнь в темницу, сверхчеловек есть то, что освобождает жизнь в самом человеке в пользу иной формы… Фуко приводит весьма серьезное соображение: если верно, что лингвистика гуманистического XIX века образовалась на основе рассеивания языков как условия "выравнивания языка" в роли объекта, то тогда же наметился и контрудар в той мере, в какой литература приняла на себя совершенно новую функцию, состоявшую, напротив, в "собирании" языка, в придании ценности "сущности языка" независимо от того, что он обозначает, и, следова-тельно, независимо даже от самих звуков[16]. Любопытно как раз то, что в своем прекрасном анализе новой литературы Фуко наделяет язык той привилегией, в которой отказывает жизни и труду: он считает, что жизнь и труд — вопреки их дисперсии, сопутствующей дисперсии языка, не утратили собранности своего бытия[17]. Нам все же кажется, что труд и жизнь, взятые в присущей каждому из них дисперсии, смогли собраться лишь в своего рода отрыве от экономики и биологии, подобно тому, как язык смог начать собираться лишь в отрыве литературы от лингвистики. Потребовалось, чтобы биология совершила скачок в молекулярную биологию, а рассеянная жизнь сосредоточилась в генетическом коде. Необходимо было, чтобы рассеянный труд собрался или перегруппировался в кибернетических или информатических машинах третьего поколения. Какими могут быть те силы-участницы, с которыми силы в человеке могли бы в этом случае завязывать взаимоотношения? Это, пожалуй, уже не будет ни возвышение до бесконечного, ни конечное, а будет конечно-неограниченное, как можно назвать всякую ситуацию с участием силы, где ограниченное число составных частей дает практически неограниченное количество сочетаний. Оперативный механизм теперь, видимо, будет формироваться не за счет складки или разглаживания, а при помощи чего-то, напоминающего Сверх-складку, о которой свидетельствуют изгибы, присущие цепочкам генетического кода, возможности кремния в компьютерах третьего поколения, а также контуры фразы в литературе модерна, когда языку "только и остается, что загнуться в вечной оглядке на себя". Это новая литература, которая выдалбливает "иностранный язык в своем языке", которая, проходя через неограниченное количество наложенных друг на друга грамматических конструкций, обнаруживает свое тяготение к атипичной, аграмматичной выразительности, словно к концу языка (среди прочего здесь, к примеру, можно отметить "Книгу" Малларме, повторы Пеги, выдохи Арто, аграмматикальности Каммингса, особым образом обрезанные и сложенные в "гармошку" сочинения Берроуза, размножающиеся посредством деления фразы Русселя, новообразования Бриссе, коллажи дадаистов…) Впрочем, разве "конечно-неограниченное" или сверхскладку не вычерчивал уже Ницше, назвав их "вечным возвращением"?

«Анти-Эдип» — первая книга из дилогии авторов «Капитализм и шизофрения» — ключевая работа не только для самого Ж. Делёза, последнего великого философа, но и для всей философии второй половины XX — начала нынешнего века. Это последнее философское сочинение, которое можно поставить в один ряд с «Метафизикой» Аристотеля, «Государством» Платона, «Суммой теологии» Ф. Аквинского, «Рассуждениями о методе» Р. Декарта, «Критикой чистого разума» И. Канта, «Феноменологией духа» Г. В. Ф. Гегеля, «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше, «Бытием и временем» М.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.
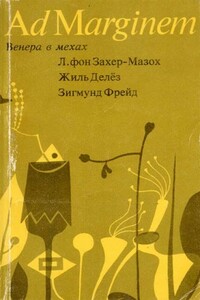
Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.
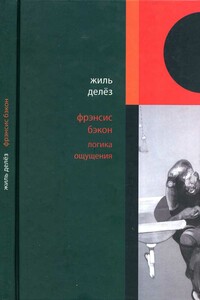
«Логика ощущения»—единственное специальное обращение Жиля Делёза к изобразительному искусству. Детально разбирая произведения выдающегося английского живописца Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), автор подвергает испытанию на художественном материале основные понятия своей философии и вместе с тем предлагает оригинальный взгляд на историю живописи. Для философов, искусствоведов, а также для всех, интересующихся культурой и искусством XX века.
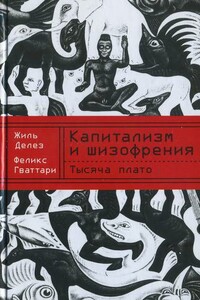
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Жизнь — это миф между прошлым мифом и будущим. Внутри мифа существует не только человек, но и окружающие его вещи, а также планеты, звезды, галактики и вся вселенная. Все мы находимся во вселенском мифе, созданным творцом. Человек благодаря своему разуму и воображению может творить собственные мифы, но многие из них плохо сочетаются с вселенским мифом. Дисгармоничными мифами насыщено все информационное пространство вокруг современного человека, в результате у людей накапливается множество проблем.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.