Французское завещание - [66]
При каждой такой встрече в моем сознании звучал настойчивый зов: надо было тут же, немедленно их пленить, этих незнакомок, присвоить их, пополнить их плотью мои четки вымечтанных тел. Ибо каждая упущенная возможность была поражением, невосполнимой потерей, пустотой, которую другие тела смогут заместить лишь частично. В такие моменты моя лихорадка становилась непереносимой!
Я никогда не решался затрагивать эту тему с Шарлоттой. Еще немыслимей было говорить с ней о рассеченной надвое женщине в катере или о ночи с пьяной девочкой с танцплощадки. Догадывалась ли она сама о моем смятении? Безусловно. Не имея возможности представить себе конкретную проститутку в иллюминаторе или рыжую девчонку на старом пароме, она, думается, могла определить с большой точностью, «как далеко я зашел» в любовном опыте. Бессознательно какими-то вопросами, какими-то утайками, притворным равнодушием к каким-то щекотливым темам, даже молчанием я рисовал свой портрет – портрет любовника-недоучки. Но я не отдавал себе в этом отчета, как человек, забывающий, что его тень повторяет на стене движения, которые он хотел бы скрыть.
Так что, когда Шарлотта стала читать Бодлера, я подумал, что это просто совпадение – женское присутствие, обрисовавшееся в первой же строфе сонета:
– Видишь, – продолжала бабушка, перемежая русский французским, поскольку надо было сравнивать оригинал и переводы, – у Брюсова первая строка звучит так: «Когда, закрыв глаза, я в душный вечер лета…» и т.д. А у Бальмонта [12] – «Осенним вечером, когда, глаза закрыв…» На мой взгляд, и тот, и другой упрощают Бодлера. Понимаешь, в его сонете «теплый осенний вечер» – это очень конкретно, да, глубокой осенью, внезапно, как благодать – этот теплый вечер, единственный, скобка света посреди дождей и невзгод. В переводах они исказили Бодлера: «осенний вечер», «вечер лета» – это плоско, без души. А у него это мгновение магическое, знаешь, немножко вроде погожих дней бабьего лета…
Шарлотта продолжала свои комментарии с тем слегка наигранным дилетантизмом, которым маскировала часто очень глубокие знания, боясь, как бы не показалось, что она ими хвалится. Но я больше ничего не слышал, только то русскую, то французскую мелодию ее голоса.
Вместо этой одержимости женской плотью, вездесущей женщиной, которая изводила меня своей неистощимой многоликостью, я ощущал великое умиротворение. В нем была прозрачность «теплого осеннего вечера». И покой медлительного, почти меланхолического любования прекрасным женским телом, распростертым в блаженной любовной усталости. Телом, чувственные отражения которого разворачиваются анфиладой реминисценций, запахов, отсветов…
Вода в реке начала прибывать еще прежде, чем гроза докатилась до нас. Мы спохватились, когда течение уже заплескивало корни ив. Небо лиловело, чернело. Взъерошенная степь замирала ослепительными мертвенно-голубоватыми пейзажами. Щиплющий кисловатый запах прохватил нас вместе с холодком надвигающегося ливня. А Шарлотта, складывая салфетку, на которой мы полдничали, заканчивала свой разбор:
– Но в конце, в последних строках, обнаруживается истинный парадокс перевода. Бальмонт превосходит Бодлера! Да, Бодлер говорит о «песнях моряков» на острове, рожденном «запахом твоей разгоряченной груди». А Бальмонт, переводя это, слышит «разноязычные матросов голоса»… Эти крики на разных языках гораздо живее, чем «песни моряков» – довольно затасканный, надо признать, романтический штамп. Вот видишь, это как раз то, о чем мы как-то говорили: переводчик прозы – раб автора, а переводчик поэзии – соперник. Впрочем, в этом сонете…
Она не успела договорить. Вода забурлила прямо у нас под ногами, унося мою одежду, несколько бумажных листков и одну из Шарлоттиных сандалий. Налитое дождем небо обрушилось на степь. Мы кинулись спасать то, что еще можно было спасти. Я поймал свои штаны, рубашку, которая, уплывая, счастливо уцепилась за ветку ивы, и изловчился ухватить Шарлоттину сандалию. Потом листки – это были переписанные стихи. Ливень быстро превратил их в заплывшие чернилами комочки…
Мы не заметили своего испуга – оглушительный тарарам грома своим неистовством прогнал всякую мысль. Вихри воды замкнули нас в дрожащих границах собственных тел. С захватывающей остротой ощущали мы свои голые сердца, захлестнутые этим потопом, в котором небо перемешалось с землей.
Несколько минут спустя засияло солнце. С высоты берегового откоса мы любовались степью. Сверкающая, вздрагивающая тысячью радужных искр, она, казалось, дышала. Мы с улыбкой переглянулись. Шарлотта потеряла свою белую косынку, ее мокрые волосы потемневшими прядями струились по плечам. На ресницах поблескивали дождевые капельки. Насквозь промокшее платье облепило тело. «Она молодая. И очень красивая. Несмотря ни на что», – отозвался во мне тот непроизвольный голос, который нам не подчиняется и смущает нас своей прямолинейностью, но и открывает то, чего в обдуманную речь не пропускает цензура.
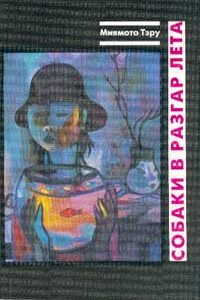
Слава "новой японской прозы", ныне активно переводимой и превозносимой на Западе, — заслуга послевоенного поколения японских писателей, громко заявивших о себе во второй половине 70-х.Один из фаворитов «новых» — Миямото Тэру (р. 1947) начинал, как и многие его коллеги, не с литературы, а с бизнеса, проработав до 28 лет в рекламном агентстве. Тэру вначале был известен как автор «чистой» прозы, но, что симптоматично для «новых», перешел к массовым жанрам. Сейчас он один из самых популярных авторов в Японии, обласканный критикой, премиями и большими тиражами.За повесть "Мутная река"("Доро-но кава"), опубликованную в июле 1977 г.

Ричард Бротиган (1935–1984) — едва ли не последний из современных американских классиков, оставшийся до сих пор неизвестным российскому читателю. Его творчество отличает мягкий юмор, вывернутая наизнанку логика, поэтически филигранная работа со словом.

Шорт-лист премии Белкина за 2009-ый год.Об авторе: Родился в Москве. Окончил Литинститут (1982). Работал наборщиком в типографии (1972–75), дворником (1977–79), редактором в журнале «Вильнюс» (1982–88). В 1988 возглавил Русский культурный центр в Вильнюсе. С 1992 живет в Москве. (http://magazines.russ.ru)
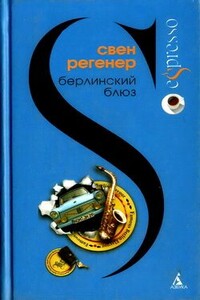
Впервые на русском – главный немецкий бестселлер начала XXI века, дебютный роман знаменитого музыканта, лидера известной и российскому слушателю группы «Element of Crime».1989 год. Франк Леман живет в крошечной квартирке в берлинском богемном квартале Кройцберг и работает барменом. Внезапно одно непредвиденное происшествие за другим начинает угрожать его безмятежному существованию: однажды ночью по пути домой он встречает весьма недружелюбно настроенную собаку (задобрить ее удается лишь изрядной порцией шнапса); в Берлин планируют нагрянуть его родители из провинции; и он влюбляется в прекрасную повариху, которая назначает ему свидание в бассейне.

Марк Гиршин родился и вырос в Одессе. Рукописи его произведений кочевали по редакциям советских журналов и издательств, но впервые опубликоваться ему удалось только после отъезда на Запад в 1974 году. Недавно в Нью-Йорке вышел его роман «Брайтон Бич». Главная тема нового романа — врастание русского эмигранта в американскую жизнь, попытки самоутвердиться в водовороте современного Нью-Йорка.Предисловие Сергея Довлатова.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.