Фрагменты речи влюбленного - [42]
1. Цицерон, а вслед за ним и Лейбниц противопоставляют gaudium и laetitia. Gaudium — это «удовольствие, испытываемое душой, когда она считает обеспеченным обладание каким-нибудь настоящим или будущим благом; а обладаем мы подобным благом тогда, когда оно находится в нашей власти, так что мы можем пользоваться им, когда хотим». Laetitia — удовольствие бодрое, «состояние, при котором а нас преобладает удовольствие» (среди прочих, подчас противоречивых чувств) — Предмет моих грез — Gaudium: наслаждаться пожизненным обладанием. Но, не в состоянии получить доступ к Gaudium, от которого меня отделяют тысячи препятствий, я мечтаю отыграться на Laetitia: а что если я смогу заставить себя ограничиться одними лишь доставляемыми мне другим бодрыми удовольствиями, не заражая, не унижая их тоской, которая служит прокладкой между ними? Что если мне удастся рассматривать свою любовную жизнь антологически? Что если для начала я пойму, что великие тревоги не исключают моментов чистого удовольствия (так войсковой капеллан в «Матушке Кураж» объясняет, что «война не исключает мира»), а в дальнейшем мне удастся систематически забывать зоны тревоги, разделяющие эти моменты удовольствия? Что если я смогу быть ветреным, непостоянным?
Лейбниц, Брехт[142]
2. Этот проект безумен, ибо Воображаемое именно и определяется своей слитностью («одно к одному»), или же: своей способностью запечатлеваться: в образе ничто не может быть забыто; изнурительное воспоминание мешает выйти из любви по желанию, иначе говоря — благонравно, рассудочно в ней пребывать. Я вполне могу вообразить процедуры, направленные на то, чтобы добиться ограничения моих удовольствий (на эпикурейский манер обратить редкость общения в изыск отношений или же считать другого утраченным, после чего каждый раз смаковать, когда он возвращается, облегчение от воскресшей близости), но это напрасный труд: любовное невезение невыводимо, как пятно; тут либо терпи, либо уходи — устроиться невозможно (любовь не признает ни диалектики, ни реформирования).
(Грустная версия ограничения удовольствий: моя жизнь в руинах; одни вещи на месте, другие распались, рухнули; сплошной упадок.)
«Из священников его никто не сопровождал»
ОДИНОК. Эта фигура отсылает не к вполне возможному человеческому одиночеству влюбленного субъекта, а к его одиночеству «философическому», поскольку ни одна из главных современных систем мысли (дискурса) не берет на себя заботу о любовной страсти.
1. Как зовется субъект, наперекор всему и всем упорствующий в некоем заблуждении, словно перед ним, чтобы «обманываться», целая вечность? — О нем говорят, что он впал в ересь. Переходя от одной любви к другой или же в процессе одной и той же любви, я не перестаю «впадать» в некую тайную, никем со мной не разделяемую доктрину. Когда под покровом ночи тело Вертера относят на дальний край кладбища, подле двух лип (дерево с простым запахом, дерево воспоминания и дремоты), «из священников его никто не сопровождал» (это последняя фраза романа). Религия, возможно, осуждает в Вертере не только самоубийцу, но также и влюбленного, деклассированного утописта, того, кто не «связан» ни с кем, кроме самого себя.
Вертер, Этимология[143]
2. В «Пире» Эриксимах с иронией констатирует, что Пир читал где-то панегирик соли, но ничего об Эросе; и именно потому, что Эрос цензурирован в качестве темы беседы, маленькая компания «Пира» решает сделать его темой своего «круглого стола» — совсем как современные интеллектуалы, наперекор течению согласные обсуждать именно Любовь, а не политику, Желание (любовное), а не Потребность (социальную). Эксцентричность беседы проистекает из ее систематичности: сотрапезники пытаются создать отнюдь не доказательные тирады или рассказы о пережитом, а доктрину; для каждого из них Эрос — некая система. Сегодня, однако, для любви нет никакой системы; а те немногие системы, которые окружают современного влюбленного, не оставляют ему никакого места (разве что обесцененное); тщетно обращается он к тому или иному из расхожих языков, ни один ему не отвечает — разве что для того, чтобы отвратить его от им любимого. Христианский дискурс, если он еще существует, призывает его к подавлению и сублимации. Дискурс психоаналитический (который, по крайней мере, описывает его состояние) побуждает его навсегда распрощаться с собственным Воображаемым. Что касается дискурса марксистского, тот молчит. Если мне приспичит постучаться в эти двери, чтобы хоть где-то добиться признания моего «безумия» (моей «истины»), двери эти одна за другой закрываются; и, когда все они закрыты, вокруг меня тем самым образуется языковая стена, которая заживо меня хоронит, подавляет и отталкивает — если только я не приду к покаянию и не соглашусь «избавиться от Х…».
Пир
(В кошмарном сне мне привиделся любимый человек, которому на улице стало плохо и который тревожно просил о лекарстве; но сколько я ни бегал всполошено взад и вперед, все проходили мимо, сурово отказывая; тревога этого человека приняла истерический оборот, за что я его и упрекал. Чуть позже я понял, что этим человеком был я сам — конечно же, о ком еще грезить? — я взывал ко всем прохожим языкам (системам), тщетно требуя от них во что бы то ни стало, непристойно, некоей философии, которая бы меня «понимала» — «принимала».)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
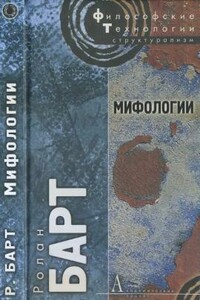
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
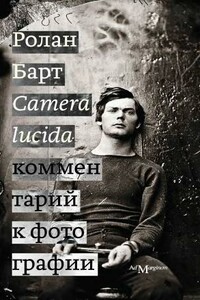
«Camera lucida. Комментарий к фотографии» (1980) Ролана Барта — одно из первых фундаментальных исследований природы фотографии и одновременно оммаж покойной матери автора. Интерес к случайно попавшей в руки фотографии 1870 г. вызвал у Барта желание узнать, благодаря какому существенному признаку фотография выделяется из всей совокупности изображений. Задавшись вопросом классификации, систематизации фотографий, философ выстраивает собственную феноменологию, вводя понятия Studium и Punctum. Studium обозначает культурную, языковую и политическую интерпретацию фотографии, Punctum — сугубо личный эмоциональный смысл, позволяющий установить прямую связь с фотоизображением.http://fb2.traumlibrary.net.
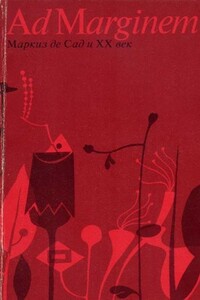
Литературное наследие маркиза де Сада (1740–1814) — автора нашумевших своей «непристойностью» романов «Жюстина», «120 дней Содома», «Жюльетта» и др. — оказало заметное влияние на становление современного литературного и философского языка, а сам «божественный маркиз» стал одной из ключевых фигур в сегодняшних спорах вокруг так называемого модернистского проекта, связанного с верой во всемогущество человеческого разума. Публикуемые в настоящем издании работы крупнейших мыслителей современной Франции (Ж.

Французское издательство «Сей» выпускало серию под названием «Писатели на все времена» и предложило Барту издать в ней книгу о самом себе. Предложенная форма обернулась возможностью пережить и проанализировать острейшее ощущение — борьбу писателя с собственным «образом».
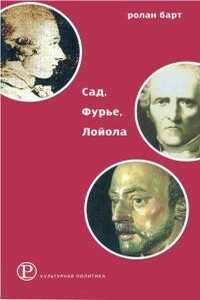
Книга известного французского мыслителя посвящена реконструкции дискурсивных практик трех фигур — писателя де Сада, социалиста Фурье и основателя ордена иезуитов Лойолы. На первый взгляд, между этими фигурами нет ничего общего, однако всех троих можно рассматривать как логотетов, основателей новых языков. Эти языки, в отличие от обычных, не нацелены на коммуникацию; они представляют собой замкнутые на себя тексты.http://fb2.traumlibrary.net.

Макс Нордау"Вырождение. Современные французы."Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.

В книге представлено исследование формирования идеи понятия у Гегеля, его способа мышления, а также идеи "несчастного сознания". Философия Гегеля не может быть сведена к нескольким логическим формулам. Или, скорее, эти формулы скрывают нечто такое, что с самого начала не является чисто логическим. Диалектика, прежде чем быть методом, представляет собой опыт, на основе которого Гегель переходит от одной идеи к другой. Негативность — это само движение разума, посредством которого он всегда выходит за пределы того, чем является.

В Тибетской книге мертвых описана типичная посмертная участь неподготовленного человека, каких среди нас – большинство. Ее цель – помочь нам, объяснить, каким именно образом наши поступки и психические состояния влияют на наше посмертье. Но ценность Тибетской книги мертвых заключается не только в подготовке к смерти. Нет никакой необходимости умирать, чтобы воспользоваться ее советами. Они настолько психологичны и применимы в нашей теперешней жизни, что ими можно и нужно руководствоваться прямо сейчас, не дожидаясь последнего часа.

На основе анализа уникальных средневековых источников известный российский востоковед Александр Игнатенко прослеживает влияние категории Зеркало на становление исламской спекулятивной мысли – философии, теологии, теоретического мистицизма, этики. Эта категория, начавшая формироваться в Коране и хадисах (исламском Предании) и находившаяся в постоянной динамике, стала системообразующей для ислама – определявшей не только то или иное решение конкретных философских и теологических проблем, но и общее направление и конечные результаты эволюции спекулятивной мысли в культуре, в которой действовало табу на изображение живых одухотворенных существ.
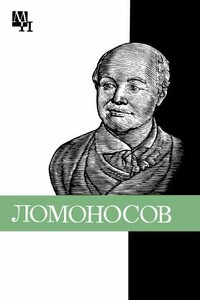
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.
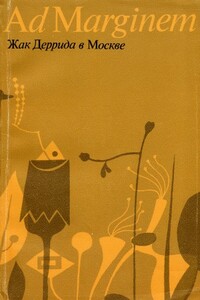
Книга «Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия» посвящена видному философу современной Франции, который побывал в нашей стране в феврале-марте 1990 г. Итогом этой поездки стали его заметки «Back from Moscow, in the USSR», в которых анализируется жанровое своеобразие серии «возвращений из СССР», написанных в 20-30-х гг. В. Беньямином, А. Жидом и Р. Этьемблем. В книгу также вошли статья московского философа М. Рыклина «Back in Moscow, sans the USSR» и беседа «Философия и литература», в которой, кроме самого Ж.

Скандально известный роман австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха (1836–1895) «Венера в мехах» знаменит не столько своими литературными достоинствами, сколько именем автора, от которого получила свое название сексопатологическая практика мазохизма.Психологический и философский смысл этого явления раскрывается в исследовании современного французского мыслителя Жиля Делёза (род. 1925) «Представление Захер-Мазоха», а также в работах основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856–1939), русский перевод которых впервые публикуется в настоящем издании.