Фрагменты и мелодии. Прогулки с истиной и без - [3]
11.
ЦАРСТВУЮЩАЯ ИСТИНА. Истина царствует? Никакого сомнения. Но не стоит забывать, что помимо этого она еще хихикает, плюется, скалит зубы, капризничает, играет с нами в прятки, свистит, когда ей этого хочется, быть может, даже испражняется или совокупляется с себе подобными или, скорее, все же с себе неподобными истинами. Она подмигивает, прихорашивается, говорит глупости, скандалит и флиртует; но самое главное, Истина лжет, лжет на каждом шагу, даже тогда, когда она говорит правду, – может быть больше всего именно тогда. При всем том, Истина остается Истиной; она повелевает нами, простыми смертными, которым в силу прирожденной слепоты дано слышать только ее царственные повеления. И хотя смертные тоже хихикают и лгут, но можно ли сравнить свободную и вдохновенную ложь Истины с тем обезьяньим, годным лишь для обезьяньих ушей языком, на котором мы обманываем и себя, и других? Ведь по самой своей природе наш убогий язык способен вмещать только правду. Оттого язык божественной лжи также похож на наш, как язык Гомера на крики и сопение павиана. Правда, время от времени мы имеем возможность убедиться, что валаамова ослица – не такая уж и редкость на нашей земле. Вдруг то там, то здесь, среди моря косноязычной правды, поднимаются фантастические и иллюзорные островки лжи. Не потому ли Истина так снисходительна к философам, что они, в отличие от прочих, обладают потрясающей и редкой способностью лгать, – способностью позаимствованной, конечно же, у самой Истины, – лгать, забывая всякий стыд и отдаваясь этому с вдохновением, достойным корибантов?
12.
Если всегда (или почти всегда) мы сами предпочитаем необходимости свободу, то есть ли у нас основания отказывать в этом Истине? Истина всегда пребывает вечно и неизменно? Чудесно, – и пусть себе и дальше пребывает в неизменности, когда ей этого хочется. Ну, а когда не хочется? Ведь, по правде говоря, с пребывающей Истиной мы встречаемся только в философских трактатах, где она, и в самом деле, ведет себя некоторым образом, как пребывающая. Ну, а в других местах? За столом, в лесу, в любовной игре, в ненависти или печали, – разве не в свободе сталкиваемся мы с ней лицом к лицу, и разве не сама она свободна выбирать, явиться ли ей перед нами вечно пребывающей или одержимой, сумасшедшей, лживой, с целомудренным ли выражением на челе или с искривленным сладострастием ртом?.. Быть может, наше желание запереть Истину в границах необходимого – это только свидетельство нашей жажды властвовать и повелевать, которая не хочет делиться ни с кем и ни с чем. Если это так, то уместно спросить: так ли уж мы далеки от Истины, как привыкли думать? И не платит ли она нам в ответ тем же самым?
13.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ НАШЕГО ПОЗНАНИЯ. Если бы мне вздумалось вдруг заявить, что в общении со шлюхами я приобрел истины значительно более приятные, чем те, которые мне удалось почерпнуть сидя за книжным столом, меня, возможно, легко пожурили бы, указав, что по невежеству ли или из-за невнимательности я соединил два несоединимых понятия. Ибо кто же не знает, что Истина и удовольствие две вещи несовместимые.
Тем большее удовольствие доставил бы мне случай утверждать, что в общении со шлюхами я приобрел истины не только более приятные, но и более истинные, чем те, которые не желают знать ничего, кроме собственной истинности. – Но кому же придет теперь охота отчитывать меня за непочтительное отношение к святая святых? Все обожатели истины знают, что есть вещи, которые лучше не замечать.
14.
Претензии философии осветить все сущее и не-сущее в их незыблемом Порядке и Единстве, остаются, увы, и сегодня не больше, чем претензиями. Отчего так? Ведь Единство и Порядок, наверное, совсем не так уж и плохи. Возможно, и познание также не такая дурная вещь, как это часто кажется. Возможно, все дело, и правда, в нашей неспособности и нашей ограниченности, мешающих нам подобрать к нужной двери ключ? Впрочем, не следует ли взять в расчет и другое? Кто знает, быть может, существует множество вещей просто не имеющих никакой охоты, чтобы их познавали, не желающих жить в трогательном единстве со всеми прочими, а в особенности с нами? Вещей, которых начинает тошнить от одной мысли о «всеобщей связи всех явлений» или об истине, как главном источнике нашего знания. Пока не будет доказано обратное, будем считать, что философия – только одна из великого множества игр, в которые играет с нами Истина. Не больше, но, возможно, – и не меньше. Теряет ли она от этого свою ценность или, наоборот, заново приобретает ее, – судить об этом я предоставляю другим.
15.
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ. Вот, пожалуй, самое несерьезное дело на свете – быть серьезным. Ведь слишком большая серьезность, как правило, чаще всего незаметно, оборачивается своей противоположностью. Оттого большинство инстинктивно придерживается золотой середины.
Следует ли нам заключить отсюда, что серьезное – несерьезно, а в несерьезном, напротив, кроется величайшая серьезность? Такой вопрос свидетельствовал бы только о чрезвычайно серьезных намерениях спрашивающего. Я же только хотел еще раз подать свой голос в защиту оборотней.
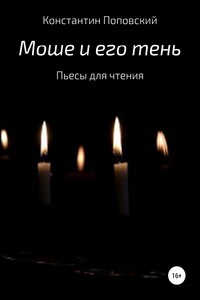
"Пьесы Константина Поповского – явление весьма своеобразное. Мир, населенный библейскими, мифологическими, переосмысленными литературными персонажами, окруженными вымышленными автором фигурами, существует по законам сна – всё знакомо и в то же время – неузнаваемо… Парадоксальное развитие действия и мысли заставляют читателя напряженно вдумываться в смысл происходящего, и автор, как Вергилий, ведет его по этому загадочному миру."Яков Гордин.

"Современная отечественная драматургия предстает особой формой «новой искренности», говорением-внутри-себя-и-только-о-себе; любая метафора оборачивается здесь внутрь, но не вовне субъекта. При всех удачах этого направления, оно очень ограничено. Редчайшее исключение на этом фоне – пьесы Константина Поповского, насыщенные интеллектуальной рефлексией, отсылающие к культурной памяти, построенные на парадоксе и притче, связанные с центральными архетипами мирового наследия". Данила Давыдов, литературовед, редактор, литературный критик.

Патерик – не совсем обычный жанр, который является частью великой христианской литературы. Это небольшие истории, повествующие о житии и духовных подвигах монахов. И они всегда серьезны. Такова традиция. Но есть и другая – это традиция смеха и веселья. Она не критикует, но пытается понять, не оскорбляет, но радует и веселит. Но главное – не это. Эта книга о том, что человек часто принимает за истину то, что истиной не является. И ещё она напоминает нам о том, что истина приходит к тебе в первозданной тишине, которая все еще помнит, как Всемогущий благословил день шестой.

Роман «Мозес» рассказывает об одном дне немецкой психоневрологической клиники в Иерусалиме. В реальном времени роман занимает всего один день – от последнего утреннего сна главного героя до вечернего празднования торжественного 25-летия этой клиники, сопряженного с веселыми и не слишком событиями и происшествиями. При этом форма романа, которую автор определяет как сны, позволяет ему довольно свободно обращаться с материалом, перенося читателя то в прошлое, то в будущее, населяя пространство романа всем известными персонажами – например, Моисеем, императором Николаем или юным и вечно голодным Адольфом, которого дедушка одного из героев встретил в Вене в 1912 году.

"По согласному мнению и новых и древних теологов Бога нельзя принудить. Например, Его нельзя принудить услышать наши жалобы и мольбы, тем более, ответить на них…Но разве сущность населяющих Аид, Шеол или Кум теней не суть только плач, только жалоба, только похожая на порыв осеннего ветра мольба? Чем же еще заняты они, эти тени, как ни тем, чтобы принудить Бога услышать их и им ответить? Конечно, они не хуже нас знают, что Бога принудить нельзя. Но не вся ли Вечность у них в запасе?"Константин Поповский "Фрагменты и мелодии".

Автор не причисляет себя ни к какой религии, поэтому он легко дает своим героям право голоса, чем они, без зазрения совести и пользуются, оставаясь, при этом, по-прежнему католиками, иудеями или православными, но в глубине души всегда готовыми оставить конфессиональные различия ради Истины. "Фантастическое впечатление от Гамлета Константина Поповского, когда ждешь, как это обернется пародией или фарсом, потому что не может же современный русский пятистопник продлить и выдержать английский времен Елизаветы, времен "Глобуса", авторства Шекспира, но не происходит ни фарса, ни пародии, происходит непредвиденное, потому что русская речь, раздвоившись как язык мудрой змеи, касаясь того и этого берегов, не только никуда не проваливается, но, держась лишь на собственном порыве, образует ещё одну самостоятельную трагедию на тему принца-виттенбергского студента, быть или не быть и флейты-позвоночника, растворяясь в изменяющем сознании читателя до трепетного восторга в финале…" Андрей Тавров.

Занятно и поучительно прослеживать причудливые пути формирования идей, особенно если последние тебе самому небезразличны. Обнаруживая, что “авантажные” идеи складываются из подхваченных фраз, из предвзятой критики и ответной запальчивости — чуть ли не из сцепления недоразумений, — приближаешься к правильному восприятию вещей. Подобный “генеалогический” опыт полезен еще и тем, что позволяет сообразовать собственную трактовку интересующего предмета с его пониманием, развитым первопроходцами и бытующим в кругу признанных специалистов.

Данная работа представляет собой предисловие к курсу Санадиса, новой научной теории, связанной с пророчествами.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.