Фосфор - [10]
В предложении "мы возвращаемся" не содержится возвращения, поскольку любое возвращение подразумевает изначально "повторение", но ответь, что повторяется! - наша первая ночь, мои мадригалы, прозвучавшие впервые великим однообразием окружающего меня, монотонность которых сочли угрожающей и противоречащей "промыслу Создателя"? Содержится ли принцип повторения в самом "промысле"? Тысячи Джезуальдо идут мне навстречу по этим петляющим коридорам, и это, согласись, может утомить любого. Но что повторяется? - сад? пустыня? ночь?.. как если бы затылку быть, - кто повторяет, кто врыт по горло? кто вторит? Обучение (обручение?) иному знаку, падающему бесконечно не на свое место? Но как, скажи, называлась тогда "дверь"? Дверь тогда называлась дверью. Ложь. Сомневаюсь. Лил ли тогда дождь? Описывая и действуя. В садах Дона Гарсиа Толедо по папоротникам и лопухам глухо бьет вода. Передвижение темной бесполой фигурки в калейдоскопе пейзажа. Изменяется не только конфигурация клавиатуры, но при необходимости и конфигурация самого знака. Набрякшие поля широкой шляпы, разошедшиеся полы пальто, вода хлещет за шиворот, обувь также участвует в представлении пейзажа и погоды, испуская при каждом шаге фонтаны воды. Он проходит мост, ее рука не сопротивляется. В воде, когда волосы облипают лицо, когда опуститься на колени, как опуститься в кипящую магму прилива, несущего грязь, щепки, пену, вращая все в грохоте глухоты и когда пропадает последнее - различие между руками и кожей. Мы были люди, а теперь вода. Затем: как благоухает воздух мокрой дубовой корой и лиственной прелью! Пурпурно-черные плоскости прогулки. Ответь, любезный моему сердцу, Торкватто, каковой должна быть поэзия, чтобы музыка, пожелавшая вступить с нею в союз, смогла избежать обольщения именами и вещами? Чтобы облегчить задачу, я задам вопрос иным образом. Не ощущал ли ты подчас в глубине души некоего томления при виде, как твои слова - о, не помысли, будто с небрежением к ним отношусь, отнюдь; трогательны они вполне... - каковой бы силой привычки воображения (превышающей нашу тварную природу) ни исполнялись, по прошествии времени не значат ровным счетом ничего? И то сказать, стал бы ты продолжать свои писания, например, когда бы дело обстояло по-иному? Удовольствовался бы ты какой-либо однойединственной строкой, несмотря даже на то, что она не что иное, как обыкновенный сколок написанного, - или же самому необходимо убедиться в том, что трижды будь Иерусалим небесным, семижды украшен ожерельями фигур, проточенных водой терпения, время (а тут - в чем для тебя его ныне мера?) стирает любой смысл явленного, оставляя только слова, значение которых пусты, скучны, докучны разуму и, тем не менее, загадочны, потому как, любезный Торкватто, если и прав Аристотель, и мы действительно обречены подражанию, как единственной возможности не просто повторения, но познания, то лишь только одно, как мне думается, заслуживает таковых усилий - подражение исчезновению, так как именно в нем видится мне, и не взыщи, вероятность приблизиться к тому, что есть подражание... Да и есть ли такое, наконец? Но я задаю вопрос не столько тебе, - не секрет, что иной раз и я с не малым удовольствием сочиняю вместе с тобой, - ... сколько себе, потому что при всей бессмысленности таких занятий подозреваю, что поэзия, вопреки своей (но кто сказал, что мы говорим словами?) природе или же, если угодно, благодаря ей, то есть, вопреки и благодаря одновременно, ближе всего находится к тому, чтобы схватить то, что она и есть в своем нескончаемом нет. Конечно, но прежде всего меня интересует, каким образом музыка (а ты обязан отдать должное моей привычке держаться в тени, так как я вовсе не притязаю на нечто из ряда вон выходящее и достаточно скромен в своих опытах) становится слову его временем. Каким образом время это дается нам нескончаемым и с неуследимой в человеческом восприятии скоростью изменяет качественное существо слова, т. е. намерения его быть таковым, а не другим, связуя нечто, что оно должно представлять с тем, что ответствует ему, возникая в рассудке и в том, что рассудком управляет? Я создаю свою музыку, как нескончаемую субструктуру, на сцене которой разворачивается постоянство твоих слов и, где нет ни значений, ни смыслов, постольку, поскольку количество превращений исключает вероятность их существования в пределах конкретного значения или же числа таковых.
Но прежде всего исчезновение. Пожалуй, так. Возможно ли изобразить смерть, обходясь без паясничанья и "изобразительной силы искусства"? Или же смерть (нет, не свою) другого, каковая есть, а мы условились, нескончаемое совпадение с самим собою и подражание где лишь подражание подражанию? Вот еще некоторые примеры того, что слышишь ежедневно, чего однако не понимаешь совершенно: "знание неизбежности смерти". Не предполагает ли такое знание отсутствие вообще какого бы то ни было знания? Либо - черпают ли его изо все удлиняющей себя вереницы образов умерших? Страха? Я не ослышался? Но страха чего? Умирал ли я до сих пор? Если нет, можно ли страшиться незнаемого?1 Однако, если страх существует, следовательно, существует знание2... Но как узнать, что я такой же, как они, а не как попугай или кора тополя, ракушка на берегу? Родство. Капля воды. Стекло. Лист бумаги. Вещи. Вещь также: туфель, 1, рагу, + или -, синее, благо, C:\word\word.exe\phosphor и так далее. В ином случае: Бог. Его "знание" (мною) им предопределенное (о нем) знание во мне. То есть, душа. Но, ежели она полна изначально, так как должна быть отражением полноты, откуда в ней страх? Но существует ли различие между страхом и трусостью? Однако, покуда мы мирно и безмятежно пребываем в устойчивом пространстве вещей, их имен. И что тоже невозможно, потому что я есть исчезновение, поскольку конечность моего существа и есть мое существо, а не его атрибут. Вместе с тем, конечность никоим образом не может восприниматься мною как статус, стазис, но как факт самого процесса исчезновения (или, другими словами, жизни) меня самого, что в свой черед можно рассматривать единственным обоснованием моего "Я", сущ(е)ствующего изначально воспоминанием, содержащим воспоминания самого себя в ____________________ 1 Это, по-видимому совершенно особое ощущение, особый страх. Это даже не страх, но головокружение, сосредоточенное в миг, срочность которого вне сознания. 2 Есть ли смерть объект, постигаемый в опыте этого объекта? единице времени, убывающей до бесконечности, и по отношению к которому я существую, как иное в процессе исчезновения моего "сейчас". А потом, возможно ли говорить о чем-то определенном, постоянном, как о том, что есть?

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
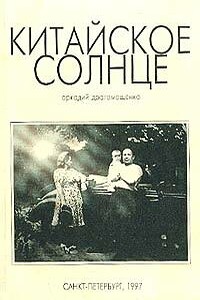
Очередная "прозаическая" книга Аркадия Драгомощенко "Китайское солнце" (прежде были "Ксении" и "Фосфор") — могла бы назваться романом-эссе: наличие персонажей, служащих повествованию своеобразным отвердителем, ему это разрешает. Чем разрешается повествование? И правомерно ли так ставить вопрос, когда речь идет о принципиально бесфабульной структуре (?): текст ветвится и множится, делясь и сливаясь, словно ртуть, производя очередных персонажей (Витгенштейн, Лао Цзы, "Диких", он же "Турецкий", "отец Лоб", некто "Драгомощенко", она…) и всякий раз обретая себя в диалогически-монологическом зазеркалье; о чем ни повествуя (и прежде всего, по Пастернаку, о своем создавании), текст остается "визиткой" самого создателя, как арабская вязь.

Роман Аркадия Трофимовича Драгомощенко (1946-2012) – поэта, прозаика, переводчика, активного участника ленинградского самиздата, члена редколлегии машинописного журнала «Часы», одного из организаторов независимого литературного «Клуба-81», лауреата Премии Андрея Белого (1978).

Hе зовут? — сказал Пан, далеко выплюнув полупрожеванный фильтр от «Лаки Страйк». — И не позовут. Сергей пригладил волосы. Этот жест ему очень не шел — он только подчеркивал глубокие залысины и начинающую уже проявляться плешь. — А и пес с ними. Масляные плошки на столе чадили, потрескивая; они с трудом разгоняли полумрак в большой зале, хотя стол был длинный, и плошек было много. Много было и прочего — еды на глянцевых кривобоких блюдах и тарелках, странных людей, громко чавкающих, давящихся, кромсающих огромными ножами цельные зажаренные туши… Их тут было не меньше полусотни — этих странных, мелкопоместных, через одного даже безземельных; и каждый мнил себя меломаном и тонким ценителем поэзии, хотя редко кто мог связно сказать два слова между стаканами.

Сборник словацкого писателя-реалиста Петера Илемницкого (1901—1949) составили произведения, посвященные рабочему классу и крестьянству Чехословакии («Поле невспаханное» и «Кусок сахару») и Словацкому Национальному восстанию («Хроника»).

Пути девятнадцатилетних студентов Джима и Евы впервые пересекаются в 1958 году. Он идет на занятия, она едет мимо на велосипеде. Если бы не гвоздь, случайно оказавшийся на дороге и проколовший ей колесо… Лора Барнетт предлагает читателю три версии того, что может произойти с Евой и Джимом. Вместе с героями мы совершим три разных путешествия длиной в жизнь, перенесемся из Кембриджа пятидесятых в современный Лондон, побываем в Нью-Йорке и Корнуолле, поживем в Париже, Риме и Лос-Анджелесе. На наших глазах Ева и Джим будут взрослеть, сражаться с кризисом среднего возраста, женить и выдавать замуж детей, стареть, радоваться успехам и горевать о неудачах.
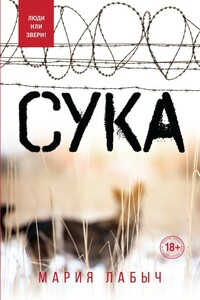
«Сука» в названии означает в первую очередь самку собаки – существо, которое выросло в будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга Марии Лабыч – не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком. Содержит нецензурную брань!

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Суд закончился. Место под солнцем ожидаемо сдвинулось к периферии, и, шагнув из здания суда в майский вечер, Киш не мог не отметить, как выросла его тень — метра на полтора. …Они расстались год назад и с тех пор не виделись; вещи тогда же были мирно подарены друг другу, и вот внезапно его настиг этот иск — о разделе общих воспоминаний. Такого от Варвары он не ожидал…».