Фокусы - [44]
— А знаешь, что мы будем делать, когда наконец у нас появится своя комната?
Может быть, он и пропустил, пока думал, чем бы выбить ее со старой орбиты, что-нибудь из того, что она говорила, но во всяком случае ничего существенного, подумал он. Она развивает все ту же тему.
— Знаю, — сказал он и обнял ее как мог крепко. — Сейчас я тебе покажу, с чего именно я начну, когда мы войдем в нашу комнату.
Он повернул за подбородок ее лицо к себе. Она не отодвинулась, не сопротивлялась. Наоборот. Она приближает к нему свое лицо. Глаза ее становятся асимметричными, съезжаются к переносице, сцепляются уголками и, скользнув, сливаются в один чудовищно большой глаз, смещенный относительно центра лица, как на картине какого-то художника-западноевропейца.
Смещенный глаз остался светлым. В этом нет ничего хорошего, подумал он. Он потянулся губами к ее рту. Она напрягла шею и, отодвинув, насколько могла, лицо, вылепила пылающими губами:
— Мы войдем в нашу комнату и будем считать, сколько денег осталось у нас в карманах, потому что наша комната будет нам уже не нужна!
Он сильно встряхнул ее за плечи, как встряхнул бы незаводящиеся часы, если бы надеялся, что соскочила какая-то пружина.
Слишком неожиданно все-таки это у нее вышло. Кривой глаз распался на два обыкновенных, симметричных. Каждый глаз остался светлым.
— К черту, — сказал он. — Какие деньги?
— Металлические, бумажные, медные — всякие, какие найдем в карманах. Потому что наша комната будет нам уже не нужна.
Он отпустил и даже оттолкнул ее от себя, — кажется, она покачнулась, — и передвинулся на край скамейки.
— Значит, ничего нет, — сказал он. Он посмотрел на свои ботинки и подумал: «Выходит, она всегда мало что понимала».
— Есть, — сказала она. — Ты ведь прекрасно знаешь, что есть.
— Нет.
— Есть. Просто всему час и время всякой вещи под небом.
Опять эталоны. Разве и она глодала тогда латынь? Хотя нет. Экклезиаст. Это совсем просто, дутая мудрость. Или не просто. Надо теперь додумать. Или не брать в голову. Ботинки-то тогда выглядели, конечно, как новенькие. Мама до сих пор никогда не забывает зеркально начистить его ботинки — человек с нечищеными ботинками не может рассчитывать на успех (потом, много позже, то есть теперь, и он, незаметно для себя, привык повторять эту довольно глупую фразу) — и положить ему в карман пиджака чистый носовой платок.
С их скамейки видны обе улицы, куда утыкаются концы дорожки-аллеи. Улицы идут под острым, жестким углом друг к другу. Но из-за густых, хотя и голых еще, кустов места скрещения улиц не видно, и от этого ему кажется, что мчащиеся навстречу друг другу на большой скорости машины неотвратимо сталкиваются на невидимом перекрестке, и из-за того, что не слышно резких звуков, неизбежных при дорожных катастрофах, иллюзия у него не исчезает, а, наоборот, придает всему остальному — скверику и зеленым скамейкам, ей и ему самому, их долгому разговору и молчанию — какую-то повышенную значительность и усиливает в нем то странное ощущение, которое он испытывал далеко в детстве, или позже, когда читал книги, которые его увлекали, или смотрел фильмы, которые ему нравились, — конечно, те, которые он смотрел раньше, то есть до нее.
Почти забытое и к тому дню ощущение, которое мелькнуло в нем, когда он слушал тот бесконечный гудок по телефону, а в тот день, день, который он теперь, много позже, неотвязно помнит и который вместе с тем в первый раз вспоминает, в день, в который произошло то, что произойти не могло, исходя из того, как понимал он тогда жизнь — vita — и, исходя из того, что понимал он о vita позже, в тот день это странное ощущение еще раз явилось к нему и не отступало с момента, когда, выйдя вдвоем из института, они свернули за угол к этому скверику, и до времени, когда вслед за молодым, прилежным милиционером он вошел в комнату, где с обеих сторон по скамейкам сидели голые мужчины в серых одеялах. Больше всего это ощущение было, пожалуй, похоже на то, будто он хочет есть и смотрит в бинокль со стороны увеличения на множество разной шикарной еды. От увеличения еда становится еще шикарнее, еще соблазнительнее, в каком-то другом, духовном, что ли, смысле, но доступнее от этого не делается, потому что он хоть и хочет протянуть руку, чтобы ее достать, но руки не протягивает, потому что все время помнит, что это увеличение, и поэтому еду он не достанет, а все станет только хуже. Наплевать, испытывали ли то же самое древние римляне и называли ли это друг другу на своей латыни. Он сам как-то, еще до того дня, назвал это свое ощущение видением идеально упрощенной реальности. Похоже, что она все время жила среди таких эмоциональных, идеальных видений. Это надо теперь додумать. Или не брать в голову. Он сказал тогда:
— Сколько тысяч людей в мире каждый день погибают от наводнений, от землетрясений, от эпидемий и, наконец, в войнах. В конце концов у нас все не так плохо. К тому же многое впереди. — И сразу подумал: «Запрещенный прием».
Она не переносила упреков. От упрека она могла убежать домой и три часа не подходить к телефону. Или зареветь тут же, на скамейке, в голос. Но пора же было с этим кончать!
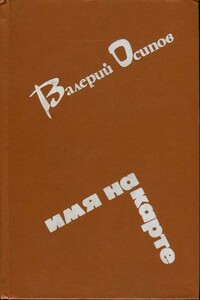
Герой романа Олег Курганов рассказывает об одном своем путешествии, во время которого он пережил личную драму. Курганов вспоминает свою жизнь, удачи и неудачи, старается разобраться в своих чувствах, мыслях, в самом себе. Вслед за Олегом Кургановым читатель совершит путешествие в детство и юность героя, вместе с ним побывает в тех краях, которые он увидел. Это Сибирь и Кавказ, Москва, Великие Луки, Ташкент и Ленинград; это Париж, Афины, Бейрут.
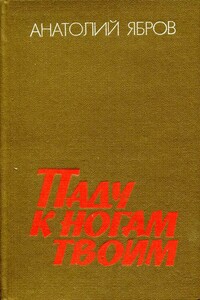
Действие романа Анатолия Яброва, писателя из Новокузнецка, охватывает период от последних предреволюционных годов до конца 60-х. В центре произведения — образ Евлании Пыжовой, образ сложный, противоречивый. Повествуя о полной драматизма жизни, исследуя психологию героини, автор показывает, как влияет на судьбу этой женщины ее индивидуализм, сколько зла приносит он и ей самой, и окружающим. А. Ябров ярко воссоздает трудовую атмосферу 30-х — 40-х годов — эпохи больших строек, стахановского движения, героизма и самоотверженности работников тыла в период Великой Отечественной.

Повести и новеллы, вошедшие в первую книгу Константина Ершова, своеобычны по жизненному материалу, психологичны, раздумчивы. Молодого литератора прежде всего волнует проблема нравственного здоровья нашего современника. Герои К. Ершова — люди доброй и чистой души, в разных житейский ситуациях они выбирают честное, единственно возможное для них решение.
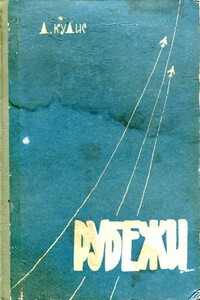
В 1958 году Горьковское издательство выпустило повесть Д. Кудиса «Дорога в небо». Дополненная новой частью «За полярным кругом», в которой рассказывается о судьбе героев в мирные послевоенные годы, повесть предлагается читателям в значительно переработанном виде под иным названием — «Рубежи». Это повесть о людях, связавших свою жизнь и судьбу с авиацией, защищавших в годы Великой Отечественной войны в ожесточенных боях свободу родного неба; о жизни, боевой учебе, любви и дружбе летчиков. Читатель познакомится с образами смелых, мужественных людей трудной профессии, узнает об их жизни в боевой и мирной обстановке, почувствует своеобразную романтику летной профессии.
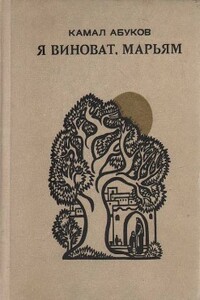
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
![Камешки на ладони [журнал «Наш современник», 1990, № 6]](/storage/book-covers/a8/a894e9dfa835c638eeb9ba7e592b34226a6720c4.jpg)
Опубликовано в журнале «Наш современник», № 6, 1990. Абсолютно новые (по сравнению с изданиями 1977 и 1982 годов) миниатюры-«камешки» [прим. верстальщика файла].