Философское мировоззрение Гёте - [4]
, и если еще в XII в. папа Иннокентий III запретил простолюдинам читать Библию, полагая, что с них вполне достаточно веры в то, что они получают, так сказать, «из вторых рук», от своего приходского священника, то специалистам не пришлось особо оговаривать каких-либо запретов, так как запрет вытекал сам собой, из зашифрованности их трудов: книги специалистов внешне доступны каждому, но приобретают их в основном «свои» люди. При этом малейшее отклонение от правил стиля, малейшее желание хоть на одну передышку отстранить шифр и заговорить нормальным не-кастовым языком встречает суровейший отпор и квалифицируется презрительным словечком «беллетристика». Я вынужден здесь довести ситуацию до ясности. Предположим, что именно так; но чем же плохо это словечко, от которого шарахаются как от чумы? Отчего же хулить увлекательность саму по себе, культивируя скуку, серость и секреты? Отчего не призадуматься над тем, что приключенческий жанр свойственен не только обыденности, но и идеям, больше того: именно идеям? Отчего, наконец, сводить реальную драму идей к анемичному изложению как ни в чем не бывало, и тем самым не только искажать суть дела, но и всячески отвращать от этого дела не-специалистов, у которых все тверже складывается наряду с помраченно сознательной верой в авторитет науки чисто инстинктивное убеждение в ее… скучности? Скажут, быть может, что я не понимаю того, о чем говорю. Пусть так. Но не понимал ли того, о чем он говорил, и Декарт, заветным желанием которого было, чтобы книги его читали «как роман» («ainsi qu'un roman»); Декарт, надеявшийся изложить свою систему так, «чтобы ее могли читать в послеобеденное время» («qu'on le pourra lire en une après-dînée»)?
Мне снова возразят: такие требования могут привести к упрощению и иного рода искажению знания. Не спорю, что могут. Это действительно чревато опасностью — переизлагать уже изложенное на понятном языке. Но в том-то и дело, что не о переизложении должна идти речь, а о самом изложении. Популяризация в истинном смысле слова не есть, как мне представляется, перевод с одного языка на другой; в таком случае ей грозили бы все казусы работы переводчика; она должна сама быть оригиналом, исходя не из потребностей расшифровки уже имеющихся текстов, а из глубинного понимания проблем и непосредственного их выражения на доступном уровне. Доступный не значит легкий; речь идет о доступности языка, и для этого вовсе не требуется жертвовать сложностью проблематики. И самое трудное можно изложить так, чтобы без малейшего ущерба для существа вопроса сделать его понятным отнюдь не одним специалистам. (Мне припоминается в этой связи забавный контраст, испытанный мною при чтении работ по теории множеств — работ специалистов и самого Кантора; конечно же, мне, неспециалисту, был намного понятнее Кантор, который, надо надеяться, добился этого не в ущерб содержанию им же созданной науки). Ибо цель науки в том, чтобы научить, а не быть родом переписки между специалистами.
При этом следует учесть: особенность гётевского мировоззрения в том, что осилить его можно не в теоретическом затворничестве, а только в жизненном праксисе: теория здесь воистину сера, если каждый атом ее не подтвержден личным жизненным опытом. Можно прекрасно знать все тексты Гёте и тем не менее быть исказителем духа его (из многочисленных примеров достаточно указать на книгу Эмилия Метнера «Размышления о Гёте», демонстрирующую блестящие знания трудов Гёте и буквальную слепоту к духу его; этот тяжелый случай был гениально разобран Андреем Белым в книге «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности»). Что касается меня, то основной моей задачей было не ограниченное следование текстам Гёте, а стремление проникнуть в живую атмосферу, ауру их; в конечном счете, не текст является высшей инстанцией мировоззрения, а дух, и писать о Гёте значит быть в духе его, а писать о Гёте в духе Гёте значит поменять акценты падежей с предложного(о ком) на творительный(кем), и, стало быть, не о духе Гёте должна идти речь, а духом его. Другое дело, насколько это мне удалось. Недостатки изложения в отдельных местах бросаются в глаза, особенно там, где обещанная ясность подменена стилистическими обольстительностями. Инстинктивно хватаюсь я за единственное оправдание: ведь писал я о Гёте и, следовательно, о своего рода вселенной. Читатель поверит мне, какой мукой — но светлой! но неизъяснимо живительной! — было писать о нем, и если не всегда удавалось выражаться на доступном уровне, это происходило оттого, что уровень доступности не был в достаточной степени осилен мною самим. Но именно к нему стремился я при написании этой книги. Поэтому, между прочим, я и убрал с переднего плана научный ее аппарат, полагая, что в данном случае аппарату уместнее было бы действовать из-за кулис, как и подобает всякому аппарату, а не выпячивать себя во всеоружии сносок и ссылок, заглушая своим гудящим механизмом живые страсти идей, разыгрывающих драму «Гёте».
И здесь же прямой выход к третьей цели предлагаемой книги, к ее «кто»: она — усилие отметить 150-летнюю годовщину памяти Гёте и почтить эту живую память живыми словами о ней.

Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
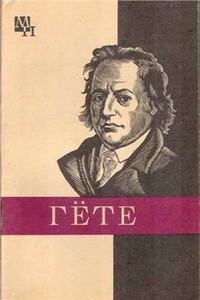
Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Удивительная книга, после которой — скажем мы в стиле Ницше — неприлично уже в наш век знания не быть христианином. Книга, ставшая жизнью и подтвержденная каждым биением жизни написавшего ее человека. Любителям всяческих магий и не снилась такая магическая власть, которая царственно просвечивает через каждую ее страницу: вершина, достигнутая тут, — та самая, с которой только и открываются «все царства мира и слава их». Мне приходит в голову невозможный, но еще раз эвристически оправданный вопрос: а что, если свобода, сотворенная в этой книге, не была бы христианской? Ответ — по уже неотвратимой аналогии — приходит сразу: тогда бы это был Иисус, не тронувшийся к Иордани, и значит, Иисус, отказывающийся осуществить впервые мистерию слов: «Не я, но Христос во мне»; наверняка и ему раздался бы голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», только голос этот принадлежал бы уже не Отцу… И еще одно, на этот раз, впрочем, вполне возможное сравнение: образ царя-мага, ведомого Рождественской звездой и возлагающего дары к ногам только что рожденного младенца… Эта книга, философия свободы — по сути магия свободы — и стала таким даром, поднесенным самым свободным духом земли восстающему в Космосе эфирному Христу.

Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..

Монография посвящена одной из наиболее влиятельных в западной философии XX века концепций культурфилософии. В ней впервые в отечественной литературе дается детальный критический анализ трех томов «Философии символических форм» Э. Кассирера. Анализ предваряется историко-философским исследованием истоков и предпосылок теории Кассирера, от античности до XX века.Книга рассчитана на специалистов по истории философии и философии культуры, а также на широкие круги читателей, интересующихся этой проблематикой.Файл публикуется по единственному труднодоступному изданию (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1989).

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
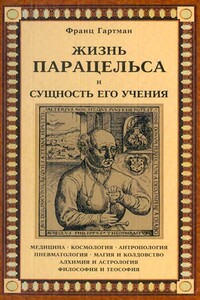
Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.