Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика, 1997-2015 - [43]
Итак, авантюре Лжедмитрия I предшествовали богословские прения о номинации. Учитывая религиозные истоки самозванства XVII в., легко объяснить тот интерес к польским арианам (одной из реформаторских сект), который испытывал Григорий Отрепьев во время бегства из Москвы. Но главное даже не в его тяготении к этой, особняком стоявшей, группе верующих (по преимуществу шляхтичей), как и не в том, что он пренебрег церковными правилами, вступая в брак с Мариной Мнишек, что подробно исследовал Б. А. Успенский (Царь и патриарх. Харизма власти в России (Византий-ская модель и ее русское переосмысление). М., 1998, с. 187 сл.). Воплотившись в наследника царской династии посредством самопереименования, Лжедмитрий I предпринял действие, уравнявшее его с Логосом, с инкорпорированным творящим Божественным Словом. Пребывая в этом статусе, он, похоже, ощущал себя превосходящим всех предшествующих русских правителей и, делая отсюда вывод, принял на себя титул императора — земного бога, главы священного государства. Утвердившееся в Повестях о Смутном времени мнение, по которому самозванец есть антихрист, предполагало, что Григорий Отрепьев покушался на позицию Христа. В сущности Лжедмитрий I инсценировал второе рождение Христа, аналогичное парусии с ее Страшным судом, — недаром он дважды в неделю встречался на царском крыльце с москвичами, разбирая их нужды (об этих его контактах с народом см.: Р. Г. Скрынников. Самозванцы в России в начале XVII века. Новосибирск, 1987, с. 159). Еще один яркий религиозный момент в жизнестроении, осуществлявшемся бывшим чудовским монахом, заключался в том, что оно следовало кенотическому поведению Христа, который, по формуле ап. Павла (Послание к Филиппийцам, 2, 7), "…уничижил Себя Самого, приняв образ раба". В своем псевдокенозисе Григорий Отрепьев разыгрывал роль гонимого и отвергнутого, но тем не менее единственно законного воспреемника московского престола. Он отождествил себя (по модели: Христос-младенец и детоубийца Ирод) с жертвой тех преступных происков, которые якобы инспирировал Борис Годунов. Иван Тимофеев охарактеризовал в своем "Временнике" Лжедмитрия I неологизмом "рабоцарь" — чрезвычайно двусмысленным: и компрометирующим самозванца, и отсылающим к определению кенозиса, данному в Послании к Филиппийцам. Идентифицирование с мучениками будет свойственно и последующим самозванцам — тем, кто выдавал себя за убитых царевича Алексея и Петра III, вплоть до авантюристки, которая настаивала на том, что она Анастасия, дочь Николая II, выжившая несмотря на то, что семья последнего русского монарха была расстреляна.
Как видно, автореноминация была в русской культуре результатом не только индивидуалистической погони за высшей властью — она имела отчетливые религиозные коннотации (и так и воспринималась современниками), являя собой переворот в апофатической концепции имени собственного, которую исповедовали псковские еретики (усопший не называем для них, как и Бог негативной теологии).[4]Если у стригольников имя мертвого табуировано,[5]то самозванцам, напротив, сила имени позволяет занять место того, кого уже нет в живых, но кто оказывается способным к метемпсихозу. Самозванство можно дефинировать как катастрофическую ересь ("еретик" — обычная аттестация Григория Отрепьева в посвященных ему текстах XVII в.). От самозванства идут преемственные линии не только к скопцам, что очевидно (их вождь, Кондратий Селиванов, провозгласил себя сразу и Петром III, и Христом), но и к хлыстам, убежденным в том, что среди них пребывает новая Богородица. Чтобы окончательно победить ономатократа, Григория Отрепьева, нужно было ритуально-магически уничтожить его подлинное имя, предав его по церквам анафеме. Тот факт, что ономатологией и борьбой с узурпаторами чужих имен занялась в России именно религиозная философия, мотивирован содержанием длительной истории отечественного самозванства — также религиозным. Но уже в начале XVII в. авторы, писавшие о событиях Смуты, стремились противопоставить самопереименованиям принцип "по имени и житие". Иван Тимофеев раскрывает этимологии имен, которые носили дети Бориса Годунова, Федор и Ксения, показывая при этом, что "nomen est omen":
"Оста же по смерти Бориса царя супруга его […] вдовствующи, двh си точию отрасли имущи: сына убо, дара божия имянуема, могуща державе скифетраправления, и произбранную уже на царство крестоклятвено же, и люди вся отчя державы ввhрившу си утверждение к служению […]; дщерь же дhву имущи чертожницу, совершене уже приспhвши к браку, странна имянем по толку. Ей же и обручникъ волею отчею приведенъ бысть отвнh земля, сын нhкоего краля…" (с. 306, 308).
Оба эти жизненные предназначения по именам, однако, не исполняются во времена, когда власти добиваются лица, не имеющие наследственного права на трон, начиная с Бориса Годунова.
Самозванство не было, конечно, одним лишь религиозным феноменом, оно имело и социальную сторону. Называя себя царевичем Дмитрием, Григорий Отрепьев учитывал всегдашнюю социальную функцию собственного имени, призванного восстанавливать уклад общественной жизни вопреки ее соматическому обновлению, смене тел, происходящей от поколения к поколению. Вместе с тем самозванец, переселившись в чужое тело, разрушил социальное содержание личного знака, соединяющего в преемственной линии разных его обладателей. Лжедмитрий I захватил власть в Московском государстве благодаря тому, что радикально преобразовал соотношение собственного имени и лица, которое им обозначается, установив полное тождество между собой и тем, кому он навязался в тезоименитство. Первая русская революция, разыгравшаяся в начале XVII в., была номинативным, антропонимическим событием. Ее отголоски звучат в псевдонимах профессиональных революционеров XIX–XX вв. Возмутители социального спокойствия в России не обходились без возвращения к той фиктивности, которую завещал им инициатор политического самозванства,
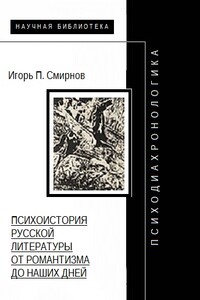
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.
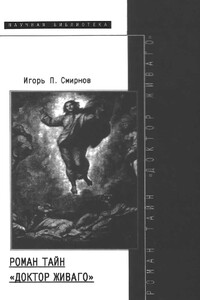
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.