Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика, 1997-2015 - [31]
Женя пришел после лагеря к Саше, когда тот уже бросил пить. В потреблении водки Саша был неудержим. Когда его загулы в конце 60-х превысили допустимое так, что промежуток между ними сократился до трех дней, ко мне обратилась его мать (все мы служили в Пушкинском Доме) и поведала план Сашиного излечения. Великий собиратель рукописей и первопечатных книг, Владимир Иванович Малышев отправил меня с Сашей в археографическую экспедицию на Северную Двину. Я был снабжен антабусом и каким-то другим лекарством, безвредным, но напоминающим по внешнему виду таблетки против алкоголизма. Дня три-четыре Саша, скитаясь со мной — где пешком, где на лодке — по Архангельской губернии, исправно глотал антабус, а затем я стал кормить товарища симулякром, щадившим печень. После начала обмана я осторожно принялся расспрашивать Сашу, тянет ли его на выпивку. Он отрицательно и не без горделивого восторга замотал головой. Саша легко поддавался внушениям. Он не был застрахован от воздействия на него людей, которым — речь идет о более позднем времени — хотелось бы манипулировать им с тем, чтобы сваять из него образцово-показательного представителя русской партии. И все же между ним и теми, кто лип к нему, был барьер — Сашина, я бы сказал, академическая пристойность. Верный ученик Б. В. Томашевского и П. Н. Беркова, Саша вовсе не был готов уступить позицию неподкупно-беспартийного исследователя мелкотравчатому расовому политиканству и держал голову много выше уровня, на котором располагался антисемитский кагал (“А правда, — сказал мне однажды Андрей Битов, — что ведь они [имелись в виду юдофобы] кагалом держатся?”; о чем-то подобном, об интроецировании нацистами сконструированного ими образа врага, рассуждала и Ханна Арендт в книге о тоталитаризме). Антисемитизм брежневской эпохи был направлен, прежде всего, против отдельных лиц и коррумпированным образом искал поддержки у государства (то бишь в обкомах КПСС). Он утратил те черты большого социоидеологического протеста (против русской революции), которые пытались придать ему ранее кое-какие ученые высшего класса, чьи имена я не буду здесь называть. Эти лица перекликались с Луи Селином и с другими принципиальными западно-европейскими антисемитами символистской и авангардистской эпох. Об этом стоило бы написать, иначе, чем Лиотар рассуждал о Хайдеггере, — Бог даст, когда-нибудь. Но антисемитизм следующего поколения был вырожден, патологичен, безыдеен (или несамостоятельно идеен) и грязен. Мы с Сашей столкнулись даже с одним негодяем из прибалтийских немцев, который ссал на могилу Пастернака. Жаль, что я узнал об этом после того, как короткая встреча с остзейцем закончилась, и не прибег к рукоприкладству.
Три свои главные работы — о русской поэзии XVII века, о юродстве и о преддверии петровских реформ — Саша подготовил в период абстиненции, который длился до 1980 года. Я считал и считаю Сашу человеком много более одаренным от естества, чем я. Он был необычайно талантлив — среди прочего и как стилист, искусно вплетающий в свою речь архаизмы. Одно меня настораживало в Саше — он всячески чурался теории. Даже “Поэтику композиции” Б. А. Успенского он не смог дочитать до конца, в сердцах отбросив ее как книгу якобы слишком головную. Между тем проблемы, которые Саша ставил, требовали теоретического обоснования. Так, он постарался восстановить по житиям фактическую историю юродства. Затея взывала к тому, чтобы задуматься над методологией этой реконструкции, над соотношением весьма шаблонизированного текста и прихотливо-своенравной жизни. Этим Саша не интересовался вовсе. Его замечательный труд о юродстве держится на проникновенной интуиции автора. Сашиной целью всегда было партиципировать предмет изучения, въявь пережить прошлое (в том числе и языковое), очутиться в нем — теория, так или иначе детище современности, могла только помешать исполнению такого намерения. Эмигрировав и ввязавшись в западноевропейский контекст, я выяснил, что протест против теории был свойствен и постмодернизму. Во Франции и в Северной Америке эта тенденция была по-своему философична — теорию ломали теоретики же, ссылаясь кто на Гёделя, кто на интуитивизм Бергсона, кто на апофатику, кто на еще что-нибудь. Сашина антитеоретичность была органической, не нуждалась в умственном легитимировании. Русский (зачаточный) постмодернизм, как и русское барокко, в котором Саша был докой, был во многом спонтанен.
Чем дольше Саша воздерживался от алкоголя и чем более упорно писал, тем сильнее он страдал от депрессии, которую старался преодолеть с помощью психотропных средств. Присутствие не столько здесь и сейчас, сколько там, где нас нет, скажем в XVII–XVIII веках, обессмысливает сегодняшний день, с одной стороны, а с другой, — не противопоставляет подорванной телесной самотождественности ничего, кроме лишь воображаемого пребывания в мирах иных. В этом суть парализующей действия индивида тоскливой индифферентности. Мнится, что ты не затребован обществом, потому что ты соматически не включен в обстающий тебя corps social. Антидепрессанты оказались для Саши недостаточной заменой водки. Как мне представляется, он начал меняться в сторону патриархальности и учительства как раз тогда, когда его стали допекать угнетенные состояния души. Критической точкой здесь оказалась речь Саши, произнесенная в 1978 году в музее-квартире Пушкина в годовщину его смерти. Помню, с каким тщанием и воодушевлением Саша готовился к выступлению, в котором он обрисовал Пушкина в качестве мирского святого, выдвигаемого народом во времена, когда церковная сакральность приходит в упадок (густая толпа, серевшая во дворе дома на Мойке, подтверждала слова, произносившиеся в пушкинских покоях). Оратор попытался объяснить слушателям, чтo есть авторитет, перед тем как сам решился сделаться таковым. Явился ли сдвиг в Сашиной позиции следствием его личной, независимой от лекарств, прописываемых психиатром, борьбы с депрессией? Похоже, да (Саша был религиозен, а как-никак уныние — один из семи смертных грехов, к каковым, кстати сказать, бражничество не принадлежит). То бессилие, которое настигает нас в полосы подавленности, Саша возместил сторицей, приложив много усердия к тому, чтобы занять место властителя общественных настроений. В этом целительном волевом акте скрывалась, однако, своя опасность. Саша-2 опять схватился за бутылку. Подобно тому как он не был удовлетворен историко-филологическим отсутствием в настоящем, он, мятущаяся душа, не мог довольствоваться и сиюминутной властью, при прикосновении к которой его завлекало в себя самозабвение. Однако еще до ораторствования Саши о Пушкине я замечал в нем тень удовлетворения, которое он испытывал всякий раз, когда имел случай попадать во главу угла какого-либо дела, например как редактор или как руководитель аспирантов. К этим заданиям Саша относился в высшей степени ответственно и был одним из самых заботливых опекунов, которых я знал. Ему импонировал инофициальный авторитет Солжа — глaвы “Русской культуры в канун Петровских реформ” он хотел поначалу назвать “узлами” на манер “Красного колеса”.
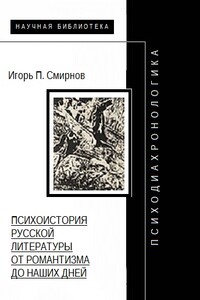
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.
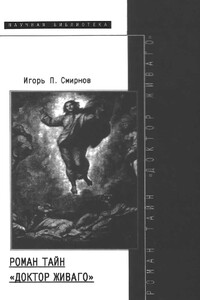
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.

Данное издание стало результатом применения новейшей методологии, разработанной представителями санкт-петербургской школы философии культуры. В монографии анализируются наиболее существенные последствия эпохи Просвещения. Авторы раскрывают механизмы включения в код глобализации прагматических установок, губительных для развития культуры. Отдельное внимание уделяется роли США и Запада в целом в процессах модернизации. Критический взгляд на нынешнее состояние основных социальных институтов современного мира указывает на неизбежность кардинальных трансформаций неустойчивого миропорядка.

Монография посвящена исследованию становления онтологической парадигмы трансгрессии в истории европейской и русской философии. Основное внимание в книге сосредоточено на учениях Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше как на основных источниках формирования нового типа философского мышления.Монография адресована философам, аспирантам, студентам и всем интересующимся проблемами современной онтологии.