Философский комментарий. Статьи, рецензии, публицистика, 1997-2015 - [214]
То, что поразило меня летом 1958 года, было прямо противоположно бунту формы. Я поступал в университет и, возвращаясь однажды светлым июльским вечером оттуда домой через Дворцовый мост, застал возле Адмиралтейства группу английских туристов, взятую в кольцо пытливыми аборигенами. Граждане двух стран, мешая языки, непринужденно болтали друг с другом. Таких чудес прежде не случалось. Особенно потряс меня молодой человек, предложивший англичанам сводить их в запасники Русского музея и показать там живопись авангарда. В увиденное и услышанное на улице было трудно поверить! Вдруг прекратили существование любые формы, запрещавшие непохожесть ли, похожесть ли на общепринятое. Табу, вообще говоря, означают власть наружного над внутренним, явленного над смыслом (который делается тайной). Люди, собравшиеся рядом с Адмиралтейством, были ничем извне не ограничены, взаимно открыты – в отличие от дверей запасников.
Табу мертвят, они монументализируют порядок, рассчитывающий установиться раз и навсегда. Ломая их, город оживал после опустошившей его большевистской революции, подавления Кронштадтского восстания, партийных чисток, изгнания дворян, убийства Кирова, Большого террора, беспримерной блокады и «ленинградского дела», уже в третий раз за незначительный промежуток времени вырубившего местную партийную верхушку. Оживал – но так никогда и не ожил. Ленинград не смог избавиться от своего тягостного прошлого. Исчезали храмы (например, снесли Греческую церковь – неподалеку от двора, где воспитывался нынешний президент Российской Федерации), убывали горожане (рос исход еврейского населения), запрещались выставки (я был свидетелем того, как сорвалась первая попытка продемонстрировать публике работы Павла Филонова), горели мастерские художников, судили писателей (Бродского, Марамзина), сажали (кого за невинное диссидентство, кого за принадлежность к подпольному Всероссийскому социал-христианскому союзу освобождения народа) – пусть даже политические репрессии и не достигали прежнего рекордного уровня.
Короткой передышки в гонениях на город, наступившей в конце 1950-х, хватило, однако, для того, чтобы он произвел на свет лучшую в ту пору в стране поэзию и прозу.
Я не попал на дневное отделение филфака, устроился на вечернее и там подружился с Бродским, посещавшим наши семинары на правах вольнослушателя. Иосиф еще только принялся за сочинение стихов. Ничего особенно не предвещало, что сбивчиво говоривший парень в потертом пальто пополнит собой ряды нобелевских лауреатов. И все же из стихов, которые он зачитывал нам в коридорах филфака скороговоркой (без будущего эстрадного захлебывания словом), шло так много энергии, что сразу делалось ясным – ее достанет и на будущее. Через пару-другую лет я взял себе на заметку, что Иосиф возрождает кладбищенскую поэзию романтиков и что ему особенно удаются стихотворные некрологи и автоэпитафия.
В 1965 году я прочитал в альманахе «Молодой Ленинград» написанный за три года до того рассказ Битова «Пенелопа». Текст держал читателей в напряжении не интригой, а тем, что в нем ничего не происходило. В напрасном ожидании Годо мы, как обнаруживалось, пребываем, не отдавая себе в том отчета, ежедневно – стоит только выйти на ленинградские улицы. Я сблизился с Андреем много позднее. Но знакомство могло бы состояться и раньше: от здания Двенадцати коллегий до Горного института, где он учился, было рукой подать.
Я общался тогда с многими даровитыми молодыми людьми, охваченными надеждой: без этой среды не сложились бы затмевающие прочих творческие личности Бродского и Битова. Вот что отличало обоих от окружения – не свойственные большинству безнадежность и готовность стоически принять несбыточность, отсутствие. О чем повествует «Пенелопа»? О страхе перед объектом, о смятении рассказчика, который не отваживается завязать отношения с наголо остриженной девушкой (не из лагеря ли она возвратилась?), но это – на поверхности. В глубине текста мысль о Ничто.
После того, как Петроград перестал быть в марте 1918 года столицей Российской империи, он выпал из истории. Урбанное пространство, перспективированное апокалиптически (так охарактеризовал петербургский миф Владимир Топоров), превратилось в постапокалиптическое. Максимум историчности, достигаемый таковой в светопреставлении, в преобразовании всего что ни есть, сменился загробным существованием, бездуховным вторым пришествием мертвых тел. В том, что городу присвоили имя умершего вождя, была непреложная закономерность. За пределом линейного протекания событий разные эпохи утрачивают свои позиции и синхронизируются. В «Комедии города Петербурга» (1926–1927) Даниил Хармс выводит на сцену одновременно Николая II, Петра Великого и комсомольца Свистунова. В бытии-из-смерти суд и казнь более невозможны. Приказ Николая II повесить некоего Щепкина невыполним: «Ну, мы свяжем его, убьем. Какая польза? Он послезавтра оживет…» Дух логичен, потому что ему не на что опереться, кроме как на себя, на силу неопровержимых выводов из постулированных им посылок. Там, где его нет, воцаряется абсурд.
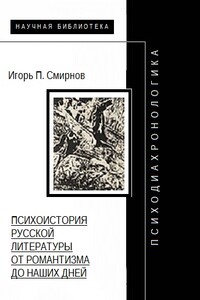
Читатель обнаружит в этой книге смесь разных дисциплин, состоящую из психоанализа, логики, истории литературы и культуры. Менее всего это смешение мыслилось нами как дополнение одного объяснения материала другим, ведущееся по принципу: там, где кончается психология, начинается логика, и там, где кончается логика, начинается историческое исследование. Метод, положенный в основу нашей работы, антиплюралистичен. Мы руководствовались убеждением, что психоанализ, логика и история — это одно и то же… Инструментальной задачей нашей книги была выработка такого метаязыка, в котором термины психоанализа, логики и диахронической культурологии были бы взаимопереводимы.

Что такое смысл? Распоряжается ли он нами или мы управляем им? Какова та логика, которая отличает его от значений? Как он воплощает себя в социокультурной практике? Чем вызывается его историческая изменчивость? Конечен он либо неисчерпаем? Что делает его то верой, то знанием? Может ли он стать Злом? Почему он способен перерождаться в нонсенс? Вот те вопросы, на которые пытается ответить новая книга известного филолога, философа, культуролога И.П. Смирнова, автора книг «Бытие и творчество», «Психодиахронологика», «Роман тайн “Доктор Живаго”», «Социософия революции» и многих других.
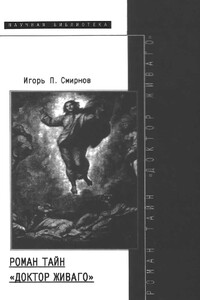
Исследование известного литературоведа Игоря П. Смирнова посвящено тайнописи в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» Автор стремится выявить зашифрованный в нем опыт жизни поэта в культуре, взятой во многих измерениях — таких, как история, философия, религия, литература и искусство, наука, пытается заглянуть в смысловые глубины этого значительного и до сих пор неудовлетворительно прочитанного произведения.

В книге профессора И. П. Смирнова собраны в основном новые работы, посвященные художественной культуре XX века. В круг его исследовательских интересов в этом издании вошли теория и метатеория литературы; развитие авангарда вплоть до 1940–1950-х гг.; смысловой строй больших интертекстуальных романов – «Дара» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака; превращения, которые претерпевает в лирике И. Бродского топика поэтического безумия; философия кино и самопонимание фильма относительно киногенной действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Что такое событие?» — этот вопрос не так прост, каким кажется. Событие есть то, что «случается», что нельзя спланировать, предсказать, заранее оценить; то, что не укладывается в голову, застает врасплох, сколько ни готовься к нему. Событие является своего рода революцией, разрывающей историю, будь то история страны, история частной жизни или же история смысла. Событие не есть «что-то» определенное, оно не укладывается в категории времени, места, возможности, и тем важнее понять, что же это такое. Тема «события» становится одной из центральных тем в континентальной философии XX–XXI века, века, столь богатого событиями. Книга «Авантюра времени» одного из ведущих современных французских философов-феноменологов Клода Романо — своеобразное введение в его философию, которую сам автор называет «феноменологией события».

В книге, название которой заимствовано у Аристотеля, представлен оригинальный анализ фигуры животного в философской традиции. Животность и феномены, к ней приравненные или с ней соприкасающиеся (такие, например, как бедность или безумие), служат в нашей культуре своего рода двойником или негативной моделью, сравнивая себя с которой человек определяет свою природу и сущность. Перед нами опыт не столько даже философской зоологии, сколько философской антропологии, отличающейся от классических антропологических и по умолчанию антропоцентричных учений тем, что обращается не к центру, в который помещает себя человек, уверенный в собственной исключительности, но к периферии и границам человеческого.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

Книга содержит три тома: «I — Материализм и диалектический метод», «II — Исторический материализм» и «III — Теория познания».Даёт неплохой базовый курс марксистской философии. Особенно интересена тем, что написана для иностранного, т. е. живущего в капиталистическом обществе читателя — тем самым является незаменимым на сегодняшний день пособием и для российского читателя.Источник книги находится по адресу https://priboy.online/dists/58b3315d4df2bf2eab5030f3Книга ёфицирована. О найденных ошибках, опечатках и прочие замечания сообщайте на [email protected].

Эстетика в кризисе. И потому особо нуждается в самопознании. В чем специфика эстетики как науки? В чем причина ее современного кризиса? Какова его предыстория? И какой возможен выход из него? На эти вопросы и пытается ответить данная работа доктора философских наук, профессора И.В.Малышева, ориентированная на специалистов: эстетиков, философов, культурологов.