Философский экспресс. Уроки жизни от великих мыслителей - [2]
При этом что философия, что поезда кажутся несколько замшелыми: когда-то и то и другое было важнейшей частью жизни людей, а теперь они стали старомодным пережитком. На поездах сегодня ездят лишь те, у кого нет другого выбора. Так же и философию изучают те, кого не смогли отговорить родители. Философия, как и поезда, была в ходу, пока люди не изобрели чего-то получше.
Я выписываю журнал под названием Philosophy Now. Он приходит раз в два месяца, в буром конверте из непрозрачной крафтовой бумаги, будто это порножурнал. Вот заголовки с обложки последнего номера: «Иллюзорен ли мир?», «Равно ли истинное истине?» Я прочел их жене — она закатила глаза. Для нее, как и для многих других, эти статьи — квинтэссенция всего плохого, что есть в философии, ведь в них ставятся абсурдные, лишенные ответов вопросы. Слова «философия» и «факты» соседствуют только в словаре.
Технологии соблазняют нас мыслью о том, будто философия больше не нужна. Зачем нужен Аристотель, если есть алгоритмы? Цифровые технологии успешно решают мелкие, повседневные задачи типа «где купить лучшее буррито в городе» или «самая короткая дорога на работу». И нам кажется, будто с «большими» задачами они тоже справятся без проблем. Но нет. Сири запросто найдет вам киоск с буррито, но спросите у нее, как получить от перекуса максимум удовольствия, и ответа не будет.
Или возьмем поездку на поезде. Технологии, а также их властительница наука назовут вам скорость поезда, его вес и массу, объяснят, почему постоянно пропадает вайфай в вагоне. Но наука не ответит, нужно ли ехать на этом самом поезде на встречу одноклассников или, скажем, к дядюшке Карлу, который вас всегда бесил, но сейчас тяжело заболел. Наука также не подскажет, этично ли будет стукнуть ребенка, который орет и пинает спинку вашего кресла. Наука не поможет понять, насколько прекрасен вид из окна вашего вагона. Философия тоже не в силах этого сделать (но это не точно), зато с ее помощью вы можете посмотреть на мир по-другому — и вот это очень ценно.
В местном книжном магазине раздел «Философия» расположен по соседству с разделом «Книги по саморазвитию». Будь в древних Афинах книжный, эти книги стояли бы на одной полке. Философия и была работой над собой. Философия помогала решать насущные вопросы. Философия лечила. Она была лекарством для души.
Философия помогает, но не так, как это делает массаж горячими камнями. Философия отнюдь не ленивая и приятная расслабуха. Это не спа-салон, а спортзал.
Французский философ Морис Мерло-Понти называл философию «радикальной рефлексией»[3]. В этом определении мне нравится намек на провокационность и элемент риска, которые определенно свойственны философии. Когда-то философы владели умами людей. Они были героями, были готовы умереть за свое учение, а некоторые, например Сократ, и в самом деле отдали свою жизнь. На сегодняшний день весь героизм философии сводится к самоотверженной борьбе ученых за преподавательские места в вузах.
Сегодня почти нигде не учат само́й философии. Преподают историю философии, но непосредственно философствовать не обучают. Философия не похожа на другие учебные предметы: это не свод знаний, скорее образ мыслей, способ бытования в мире. Не «что» или «почему», но «как».
В наши дни никого не занимает это «как». В книжном мире руководства и пособия «для чайников» вызывают смущение, словно богатый, но неотесанный родственник. Серьезные писатели не пишут мануалы, серьезные читатели их не читают. (По крайней мере, не признаются в этом.) И все же большинство из нас не будет ночи напролет размышлять над абстрактными вопросами типа «Какова природа реальности?» или «Почему в мире есть нечто, но нет ничто?». Нам требуется именно руководство: вопрос «Как?», а точнее — «Как жить?», владеет нашими умами постоянно.
В отличие от науки, философия не свод ограничительных мер. Она не просто описывает мир таким, какой он есть, но и дает понять, каким он мог бы стать. Открывает нам глаза на имеющиеся возможности. Слова писателя Дэниела Клейна о древнегреческом философе Эпикуре применимы и ко всем хорошим мыслителям: читать их сочинения следует не как философию, а скорее как «воодушевляющую поэзию»[4].
Последние несколько лет я посвятил тому, чтобы медленно, со скоростью мысли, уютно устроившись у окна в поезде, впитывать в себя эту поэзию. Я ездил на поезде всегда и везде, когда это было возможно. Я побывал там, где доводилось размышлять величайшим философам человечества. Я отважился посетить «Лагерь стоиков» в Вайоминге, бросал вызов бюрократии, опутавшей железные дороги в Дели. Я катался по линии F нью-йоркского метро дольше, чем советует здравый смысл. Все эти поездки были для меня целительной передышкой, возможностью размять ноги и разум перед новым философским рывком. Лучшей паузы нельзя было и желать.
Наберите в поисковике «философы» — вы увидите сотни, а то и тысячи результатов. Для книги я выбрал четырнадцать мыслителей. Выбирал с умом. Все эти люди мудры, хотя и каждый по-своему. Разные мыслители — разные грани мудрости. Жили они в очень разное время — Сократ в V веке до нашей эры, Симона де Бовуар в XX веке — и в разных местах, от Греции до Китая, от Германии до Индии. Все четырнадцать уже ушли в мир иной, но хорошие философы до конца не умирают — они продолжают жить в умах других. Мудрость, которая всегда с тобой. Ей не помеха время и пространство, она никогда не устаревает.
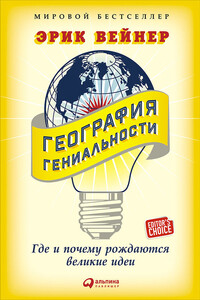
Любознательный ученый и пытливый исследователь Эрик Вейнер пускается в путешествие по странам и столетиям, чтобы выяснить, почему в некоторых местах в разные эпохи расцветал творческий гений. По ходу дела он узнает, как гениям благоприятствуют неразбериха и хаос, отчего нам хорошо думается во время ходьбы, чем устрицы помогли шотландскому Просвещению и почему без чумы не началось бы Возрождение. Вейнер ходит по тем же дорогам, что и древние афиняне, современники династии Сун и обитатели нынешней Кремниевой долины, спрашивая себя, что витает в воздухе этих мест и можем ли мы повторить это там, где проживаем сами?
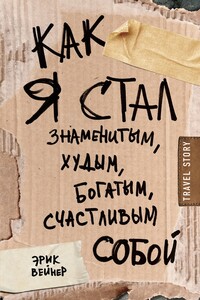
Эрик Вейнер, журналист и исследователь, отправился в путешествие по странам, признанным самыми счастливыми в мире, — Индия, Швейцария, Катар, Таиланд, Голландия, Исландия, Америка. Где же живет счастье? В сочетании реальных историй, психологии, науки и юмора автор находит ответы на этот и многие другие вопросы, предлагая путешественникам всего мира новый — «счастливый» — маршрут для поездок.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.