Философская герменевтика. Понятия и позиции - [63]
С учетом этого, последним элементом в цепи обоснования познания, будет находиться если не «содержание мышления», то, по крайней мере, «мыслимое содержание», чего требует «рафинированный эмпиризм», а не голые, логически неоформленные чувственные данные, что делает эпистемологически несостоятельным «миф о данном» «наивного эмпиризма». Опыт сохраняет, таким образом, рецептивный характер и тем самым предстает как природный феномен, но одновременно он может быть включен в «пространство оснований», поскольку даже непосредственные опытные суждения, например, о цвете предметов, оказываются включены в систему значений.
Согласно Мак-Доуэллу, в опыте вещи предстают такими, какие они есть, воздействуя на наши органы чувств, и одновременно опытные суждения могут стать элементами инференциального логического рассуждения, нацеленного на оправдание наших убеждений или действий. Опыт, в котором понятийная деятельность представлена как пассивная, ограничивает конструктивную свободу человека и соответствует требованию соответствия действительности «мифа о данном». То обстоятельство, что опыт имеет пассивный характер и представляет собой случай деятельной чувственности, должно гарантировать контроль со стороны внешнего мира, но одновременно этот контроль происходит не со стороны внешней по отношению к мышлению инстанции, а со стороны нечто мыслимого. Мак-Доуэлл утверждает, что в опыте мы познаем — посредством воздействия мира на наши чувства — элементы реальности, которая более не находится вне сферы понятийного содержания.
Он считает, с одной стороны, что приобретая опыт, человек открыт по отношению к очевидным фактам, к фактам, которые существуют независимо и влияют на его чувственность, а, с другой, что содержания опыта — это мыслимые содержания, которые стоят в цепи оправдания суждений на самом внешнем крае. Совместить эти два положения можно, если предположить, что понятийные способности, выполняющие в опыте пассивную роль, относятся к сети способностей активного мышления, «к сети, которая направляет реакции, направленные рациональным образом на понимание, реакции, касающиеся влияния мира на чувственность»[89]. Мак-Доуэлл включает чувственность в пространство оснований, ибо хотя опыт пассивен, но он вводит в игру способности, которые относятся к спонтанности мышления. В итоге он имеет дело с понятийно структурированной рецептивностью. Он определяет опыт как «деятельную рецептивность», в которой спонтанность мышления и восприимчивость чувственности связаны друг с другом. Согласно ему, созерцание, своего рода input из опыта, следует понимать не как результат простого воздействия непонятийного данного, а как состояние, имеющее понятийное содержание. С другой стороны, опыт есть влияние мира на наши чувства, продукт чувственности, имеющий реальное содержание. Содержание опыта составляют понятия о так называемых вторичных качествах предметов (цвет, вкус, запах и т. д.).
Что выигрывает теория познания, дополненная концепцией Мак-Доуэла? Во-первых, вместо «чувственных данных» эмпиризма мы имеем «опыт» или «эмпирические понятия». Во-вторых, вместо кантовского тезиса о структурировании опыта априорными категориями рассудка мы имеем неокантианский тезис об активной чувственности.
Цель Мак-Доуэлла состоит в том, чтобы разработать рациональную теорию познания с минимальным эмпирическим содержанием. Рациональное отношение к миру в процессе познания он понимает как признание ответственности по отношению к нему. Положение об ответственности в процессе познания предполагает, наряду с прочим, ответственность за эмпирические понятия. Принятие на себя ответственности за понятийное строение мира подразумевает, однако, что человек — в определенной степени — все же конституирует мир. Тогда положение об ответственности за предложения опыта можно рассматривать как положение о герменевтической ответственности по отношению к миру. При этом, однако, возникает вопрос о том, насколько далеко простирается сфера герменевтической ответственности человека.
Можно ли вообще говорить об ответственности человека по отношению к эмпирическому миру, т. е. об ответственности за эмпирические понятия? Идет ли у Мак-Доуэлла речь о том, что индивидуум должен в каждом конкретном случае корректировать свои восприятия? Например, о том, что дальтоники должны использовать понятие «красный», даже если они не способны воспринимать красный цвет? Или же вопрос об ответственности носит трансцендентальный характер в том смысле, ответственны ли люди за то, что они приписывают определенным вещам предикат «красный»? Ответственна ли летучая мышь за то восприятие мира, которая она имеет на основе строения своего организма? Должен ли человек оправдывать то, что он создан так, а не иначе? Или же он должен принять этот факт и постараться понять, почему он в результате имеет определенный способ восприятия?
Как вообще может сочетаться положение об ответственности человека за эмпирические понятия с положением об опыте как трибунале познания? Как кажется, эмпирическое понятие может служить «трибуналом опыта» только тогда, когда человек не несет никакой ответственности за эмпирические понятия. То есть в том случае, когда у человека нет возможности образовать альтернативное эмпирическое понятие, когда эмпирическое понятие не зависит от мировоззрения. Мак-Доуэлл и сам признает, что «то, как опыт индивидуума репрезентирует вещи, находится вне нашего влияния» (там же, С 35). Он, однако, настаивает на том, что «от нас зависит, принимаем ли мы эту видимость или нет» (там же). Спрашивается, не спутаны ли в данном случае речь об эмпирическом понятии и о его нормативной интерпретации?

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Поль Вирильо, архитектор, основатель (совместно с Клодом Параном) группы «Architecture Principe», писатель, автор книг «Бункер: археология», «Скорость и политика», «Эстетика исчезновения», «Критическое пространство», «Информационная бомба», «Пейзаж событий» и других, католик, развивает в эссе «Машина зрения» свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости. Социальная эволюция, тесно переплетенная, согласно Вирильо, с процессом всеобщего ускорения, в данном случае рассматривается в ее визуальном аспекте.
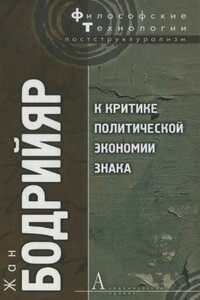
Одна из важнейших программных книг современного французского мыслителя представляет собой собрание статей, последовательно выстраивающих оригинальную концепцию, с позиций которой разворачивается радикальная критика современного общества, исполненная с неподражаемым изяществом и блеском. Столкновение подходов политэкономии и семиотики, социологии и искусствоведения, антропологии и теории коммуникации позволяет достичь не только разнообразия стилистики, но и неожиданно парадоксального изменения ракурсов восприятия всех актуальных проблем.Для студентов и всех интересующихся современной философией.http://fb2.traumlibrary.net.
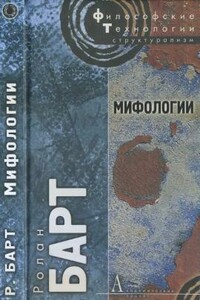
В середине 1950-х гг. Р. Барт написал серию очерков о «всеобщей» современной мифологизации. «Мифологии» представляют собой блестящий анализ современной массовой культуры как знаковой системы. По мнению автора, образ жизни среднего француза «пропитан» мифологизмами. В книге Р. Барт семиотически объясняет механизм появления политических мифов как превращение истории в идеологию при условии знакового оформления этого процесса. В обобщающей части работы Р. Барта — статье «Миф сегодня» предлагается и объяснение, и метод противостояния современному мифологизированию — создание новейшего искусственного мифа, конструирование условного, третьего уровня мифологии, если под первым понимать архаико-традиционную, под вторым — «новую» (как научный класс, например, советскую)
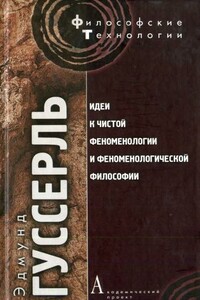
Ключевая работа основателя феноменологии — одного из ведущих направлений современной мысли, подвергающего анализу непосредственные данности сознания — представляет собой подробное введение в феноменологическую проблематику. В книге обосновывается понимание феноменологии как чистой науки, философского метода и мыслительной установки. Традиционные философские вопросы о восприятии и переживании, о сознании и мышлении, о разуме и действительности разворачиваются оригинальным образом. С немецкой обстоятельностью Гуссерль разбирает особенности феноменологической редукции, учения о ноэме и ноэзисе, позиции трансцендентального идеализма.http://fb2.traumlibrary.net.

Совместная книга двух выдающихся французских мыслителей — философа Жиля Делеза (1925–1995) и психоаналитика Феликса Гваттари (1930–1992) — посвящена одной из самых сложных и вместе с тем традиционных для философского исследования тем: что такое философия? Модель философии, которую предлагают авторы, отдает предпочтение имманентности и пространству перед трансцендентностью и временем. Философия — творчество — концептов" — работает в "плане имманенции" и этим отличается, в частности, от "мудростии религии, апеллирующих к трансцендентным реальностям.