Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова - [4]
Отметим, что одной «саморазоблачительной» фразой в письме к Ленину Мясников не ограничился. Своей роли в организации убийства он посвятил пространное и вызывающее письмо, адресованное ЦК ВКП(б), ОГПУ и Орджоникидзе. Как и в случае с ответом Ленину, обращение к этой теме мотивировалось скорее импульсивностью и неуравновешенностью отправителя, чем какими-либо практическими соображениями. Но если в первом случае Мясников «завелся» в полемическом задоре, то во втором обращение к истории с Михаилом Романовым было вызвано полной безысходностью положения, в котором оказались автор и его семья: после отбытия трехлетнего срока, полученного в январе 1924, ОГПУ при пересмотре дела продлило пребывание Мясникова в тюрьме еще на три года, а его семьи на тот же срок — в ссылке. Но здесь как адресат, так и жанр («послание из одиночной камеры») должны были подразумевать конфиденциальность письм.[11]
Итак, если судить по ставшим нам известными источникам, было всего два случая письменной фиксации Мясниковым интересующего нас эпизода. Его реакция на муссирование этой темы за границей (и в 1923, и в 1929/1931) позволяет сделать однозначный вывод: эпизод с убийством, в отличие от других фактов биографии, для широкой огласки (во всяком случае, до 1935) Мясниковым не предназначался. Таким образом, напрашивается вывод: если Гавриил Ильич использовал этот эпизод первый паз в острейшей полемике с «самим» Лениным, а в другой — лишь под угрозой физического уничтожения (по-видимому, иной возможности облегчить положение свое и своей семьи, не вставая при этом на колени, он в тот момент не видел), то чтобы пойти на эксплуатацию сюжета с убийством вновь, он должен был оказаться в не менее экстремальной ситуации. После бегства из СССР, после тюрем Ирана и Турции, после истории с кражей рукописей, после травли со стороны русских эмигрантов в Париже Мясников вроде бы должен был действовать крайне осторожно (речь идет и о завязывании знакомств, и о поисках места жительства и работы, и о проявлениях политической активности). При этом счет Мясникова к тогдашнему режиму в СССР продолжал расти.[12] Даже мучительное, противоестественное для него состояние «затаившегося в норе» (и это в далеком от чекистов и Политбюро Париже!) Мясников, судя по материалам следственного дела и «Автобиографии», как мог, использовал. В том числе для написания (правда, без дальнейшей публикации) откровенно полемических, позже бы сказали «клеветнических», заметок и обширных политических трактатов...[13]
В 1930-е Мясников продолжает свою последовательную линию поведения. Пытается (безуспешно) создать парижский вариант «Рабочей группы». Мистифицирует местную «левую» публику, подписывая свои статьи как «Представитель Центрального Бюро Коммунистической партии СССР».[14] Пробует, тоже безуспешно, наладить регулярный выпуск газеты «Оппозиционная правда». Постановлению властей о высылке из страны за «вмешательство во внутренние дела Франции» не подчиняется и скрывается (успешно). Одновременно, регулярно обращаясь в советское посольство с просьбой разрешить ему вернуться на родину, дает обещания не заниматься в СССР политической деятельностью. Но в то же время, сообщая жене в Россию об этих своих попытках, уверяет ее, что политических взглядов не изменил... Вскоре после безуспешной попытки создать «Рабочий коммунистический Интернационал» (1934) Мясников уезжает из Парижа в городок Куломье и устраивается рабочим на стройку, где остается до 1936. Именно там он создает «Философию убийства...»
1934 год в какой-то степени был переломным. На допросах в 1945 Мясников об этом говорит так: «до 1934 г. я выступал в печати против советского государства. После же 1934 года таких выступлений не было. Однако до 1938 года я продолжал писать книги, направленные против Советского Союза /.../ когда после мюнхенского соглашения я увидел тучи, сгустившиеся над СССР, я не писал более этого и не критиковал СССР /.../ я прошу прочесть мою рукопись «Философия убийства...», где Вы не увидите ничего антисоветского. Эту рукопись в 1940 году я послал Сталину». Что получается? Мясников ставит себе в заслугу прекращение печатных выступлений. Представляется, однако, что не столько желание не обижать вслух советский режим, а скорее «местные» обстоятельства вынудили Мясникова изменить образ действий. Для адекватного понимания остальных слов подследственного надо помнить: представление Гавриила Ильича об отсутствии «антисоветского» в его творчестве, в контексте тогдашней эпохи, было весьма своеобразным. И тут он не хитрил. Посылая свою рукопись Сталину в 1940, Мясников ничего иного, как продемонстрировать свою лояльность, не предполагал. Но мясниковская «демонстрация лояльности», по сути, — очередной вызов властям. Впрочем, вызов — практически все его действия. Иначе он не умел... Любому здравомыслящему современнику Мясникова было бы очевидно: чтобы получить прощение от режима и безопасно вернуться на родину, «Философия...» никак не годилась. И если автор все же рассчитывал заработать с ее помощью политические дивиденды, то приходится признать его полнейшую наивность... Самое большое, чего он мог бы добиться, — спровоцировать нападение на себя какого-нибудь монархиста-мстителя. Мы не располагаем достоверными сведениями о намерениях Мясникова опубликовать свою «исповедь» по-русски на Западе.

Был ли в СССР построен социализм? Над этим вопросом сломано столько перьев и пролито столько чернил, что многих он уже просто раздражает. Но, может, нужно ставить вопрос иначе: какой социализм строили в СССР?
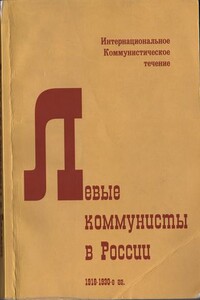
Книга посвящена малоизвестной истории российских левых коммунистов, ставших в оппозицию советскому партийно-государственному режиму еще при жизни Ленина и затем пытавшихся вести борьбу против сталинской диктатуры. Представители этого течения осуждали политику правящей коммунистической бюрократии как измену революции, видели в советском «социализме» государственный капитализм и внесли свой вклад в осмысление тоталитарной трансформации большевизма. В серии статей британских исследователей — членов Интернационального коммунистического течения рассматриваются идеи и деятельность различных левокоммунистических группировок — от фракции левых коммунистов в РКП(б) 1918 года до федерации левых коммунистов, созданной в 1933 г.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.