Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова - [2]
Жанр, к которому следует отнести «Философию убийства...», условно назовем «исповедь убийцы». Не записка, составленная по тому или иному поводу (например, по просьбе Истпарта или Общества политкаторжан), не некий описательный отчет, лишь фиксирующий (как правило, по памяти) свои (чужие) действия в конкретном событии, а нечто более масштабное, более личностное. В «Философии...» автором ставится и по мере возможностей (способностей) разрешается глобальная задача: изложить всю полноту аргументов, побудительных причин, в том числе сугубо психологических, приведших его к определенному решению, поступку, вынудивших его «сделать то, что он сделал». Мясников реконструировал весь комплекс своих внутренних переживаний, другими словами, — заново пережил ситуацию. В мемуаристике указанный жанр встречается крайне редко. Тем больший интерес вызывают сохранившиеся немногочисленные образцы.[1] Известно, что в советскую эпоху, особенно в 1920-е (а позднее — в 1960-е), некоторые участники большевистского террора времен гражданской войны писали воспоминания (или — «наговаривали»): например, Я.Юровский и Г.Никулин — участники убийства царской семьи, А.Марков — один из убийц Михаила Романова и Брайана Джонсона...[2] Но во всех этих случаях речь идет о текстах описательных, лишь реконструирующих определенное событие и фиксирующих действия свои и других «соучастников», поведение жертв. Понятно, что подобные «свидетельства очевидцев» требуют к себе особого отношения. Не предназначавшиеся к суду современников (а значит и других возможных свидетелей и участников), эти «потаенные» тексты нуждаются в предварительном «пропускании через исследовательское сито».
Что касается написанных для печати эсеровских «воспоминаний террористов», то в большинстве своем они тоже не выходили за рамки фиксации событий и описания действующих лиц.[3] Случай с «Философией убийства...» — совершенно особенный. Само событие, отодвинутое автором на второй повествовательный план, и достоверность его описания безусловно остаются для читателя важными элементами текста, но — на наш взгляд — не определяющими его значимость. Ибо исповедуется не кто-нибудь, а Гавриил Ильич Мясников, личность не менее уникальная, чем избранный им жанр...
Представляется, что эффект «Философии убийства...» заключен не в том, что в центре повествования — операция по убийству брата Николая II, и даже не в том, что речь идет о событии, положившем начало той кровавой вакханалии истребления, в которой погибли почти все члены бывшего царствующего дома Романовых («вся большая ектения», как за полвека до того острил С.Г.Нечаев, подразумевая уничтожение всех членов царской семьи). Эффект этот зиждется, по-видимому, на уникальности, «сенсационности» самого повествователя. Не будем повторять сведений, приводимых Мясниковым в «Автобиографии» (см. Приложение 1). Сразу же отметим, что история с организацией убийства Михаила Романова была лишь эпизодом в его бурной жизни. И эпизодом, в определенной степени вызванным стечением случайных обстоятельств (чего нельзя сказать о причастности Мясникова к другим политическим расправам в 1918[4]). Не попади Михаил Александрович именно в Пермь, не Мясников бы его убил. Не окажись в те месяцы в Перми Мясников — великого князя все равно «бежали»[5] бы, пускай месяцем позже, как «бежали» алапаевских узников.
За рамками данного предисловия остается анализ чисто исторических сюжетов, связанных непосредственно с содержанием «Философии убийства...». И, быть может, самый любопытный из них — механизм бессудных несанкционированных расправ на том историческом этапе, который можно условно определить: от начала «триумфального шествия Советской власти» до начала красного террора, т.е. до августа—сентября 1918. В истории убийства вел. кн. Михаила Александровича, благодаря мясниковскому мемуару (а не верить Мясникову у нас нет никаких оснований), можно найти исчерпывающие ответы на вопросы, которые давно «мучают» исследователей. Насколько самостоятельными были или могли быть инициативы «снизу»? Какова была позиция центра по отношению к этим инициативам? В чем вообще в указанное время заключалась оппозиция «провинция—центр» и насколько один из ее компонентов зависел от другого? И т.п.
Мясниковский текст — это, среди прочего, развенчание излюбленного многими мифа о некоем централизованном тайном заговоре (в нашем случае — против членов семьи Романовых). Все было грязнее, примитивнее и безнравственнее. Центр не без чувства глубокого удовлетворения наблюдал, как амбициозные большевистские «удельные княжества» повязывают себя по рукам и ногам кровью своих жертв. Как будто бы в первые месяцы существования советского государства центр удерживал власть отчасти благодаря именно разнообразным местным инициативам (и в области экономической, и в военной, и в сфере чисто карательных мероприятий). Те же Ленин и Свердлов прекрасно знали, как на практике соотносятся друг с другом «официальный курс» и «линия на местах». Например, если в 1906 ЦК РСДРП заявлял: «не укради» — это вовсе не означало, что местный «экс» есть преступление против партии. Тем более в первой половине 1918 не было нужды в «тайных указаниях» о проведении грабежей и расстрелов.

Был ли в СССР построен социализм? Над этим вопросом сломано столько перьев и пролито столько чернил, что многих он уже просто раздражает. Но, может, нужно ставить вопрос иначе: какой социализм строили в СССР?
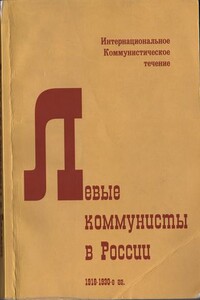
Книга посвящена малоизвестной истории российских левых коммунистов, ставших в оппозицию советскому партийно-государственному режиму еще при жизни Ленина и затем пытавшихся вести борьбу против сталинской диктатуры. Представители этого течения осуждали политику правящей коммунистической бюрократии как измену революции, видели в советском «социализме» государственный капитализм и внесли свой вклад в осмысление тоталитарной трансформации большевизма. В серии статей британских исследователей — членов Интернационального коммунистического течения рассматриваются идеи и деятельность различных левокоммунистических группировок — от фракции левых коммунистов в РКП(б) 1918 года до федерации левых коммунистов, созданной в 1933 г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге приведен библиографический список наиболее важных работ о жизни и творчестве Лермонтова. Он поможет ориентироваться в обширной литературе предмета, облегчит нахождение необходимых справок и будет способствовать дальнейшему углубленному изучению наследия писателя. Он должен также дать представление о направлениях в науке о Лермонтове и о деятельности отдельных ученых-лермонтоведов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.