Философия под антропологическим углом зрения - [5]
Как мы убедились выше, к антропологической границе принадлежат два разных вида предельных проявлений, которые отвечают размыканию человека, соответственно, к онтологическому Иному (Инобытию) и онтическому Иному (бессознательному). В силу очевидной дихотомии: Иное может быть репрезентировано либо онтологически, либо онтически, – Иное человеку не имеет других репрезентаций. Но, несмотря на это, у человека имеется еще один способ быть разомкнутым. Как нетрудно заметить, он оказывается разомкнут также и в виртуальных практиках, которые сегодня становятся все более массовыми. Согласно преобладающей трактовке виртуальности, обосновывавшейся, в частности, и в моих текстах, виртуальные феномены отличаются от актуальных ключевым свойством недоактуализованности, недовоплощенности, которое означает отсутствие какой-либо части определяющих предикатов. Конституция антропологических проявлений, отвечающих виртуальным практикам, недовершена, и потому эти проявления суть предельные проявления, лежащие на границе горизонта человеческого существования. Поскольку же проявления человека здесь недоактуализованы, недовершены, то, в этом смысле, человек в них открыт, разомкнут – хотя на сей раз, не навстречу энергиям Иного, а только навстречу потенциальному довершению своих проявлений. Такой род разомкнутости можно назвать также и «недозамкнутостью» (если рассматривать обычные, до конца актуализованные проявления как «замкнутые в себе»).
Размыкание в бытии, размыкание в сущем, виртуальное размыкание-«недозамыкание» – этими тремя видами, как ясно уже, исчерпывается размыкание человека. Антропологические проявления, соответствующие этим видам размыкания, исчерпывают антропологическую границу, образуя на ней три области, которые мы именуем, соответственно, Онтологической, Онтической и Виртуальной топиками границы. И, поскольку размыкание антропологически конститутивно, эти структуры размыкания задают основу цельной трактовки человека: человек может быть определен как сущее, трояко размыкающее себя.
Выделив полный репертуар способов размыкания человека, мы получаем основу, каркас синергийной антропологии как некоторого антропологического дискурса, способа описания-означивания антропологической реальности. Философ должен спросить: что это за дискурс, каковы его природа и статус? Ближайшим ответом будет: полученный дискурс есть некоторая антропологическая модель, т.е. концептуальная конструкция, предназначенная для описания определенной области антропологических явлений. Как нетрудно увидеть, все рассуждение, ведущее к появлению синергийной антропологии, развертывалось именно в логике моделирования: выделить определяющие черты некоторого класса явлений и воспроизвести их в нужном языке и дискурсе, нужной знаковой системе. Системно-модельное мышление – далеко не самый углубленный мыслительный способ; оно тяготеет скорей к естественно-научной, нежели гуманитарной методологии. Модель функциональна, от нее требуется лишь эффективная дескрипция заданной феноменальной сферы, и она не обязана удовлетворять каким-либо философским требованиям или эпистемологическим критериям. В свете этого, мы, разумеется, не можем признать «модель Человека» финальной и совершенной формой репрезентации знания о Человеке. Но не следует и спешить с оргвыводами, с проявлениями философского высокомерия. В сложившейся ситуации, модель человека, если она построена на принципах, отвечающих новой антропологической реальности, способна принести немалую пользу: она может дать адекватную дескрипцию тех важных и уже многочисленных феноменов, которые не поддаются пониманию на базе прежней, классической антропологии. Поэтому в развитии синергийной антропологии сначала следовал этап ее эксплуатации в качестве модели; и лишь затем, уже в последний период, настало время методологической рефлексии и переосмысления ее статуса: своеобразный сдвиг приоритетов от антропологической прагматики к антропологической эвристике.
Более тесное отношение к теме доклада имеют аспекты эвристики, и потому стадию прагматики я затрону лишь мельком. Очевидным свойством нашей модели является ее неклассичность: она не вводит базовых для классической антропологии концептов субъекта, сущности и субстанции, является бессубъектной и бессущностной. Именно это свойство и обеспечивает для нее большое поле весьма актуальных приложений. Как мы сказали, сегодня имеется уже целый круг новых антропофеноменов, которые не отвечают образу классического новоевропейского (Декарто-Кантова) человека и не укладываются в понятия классической антропологии. В качестве альтернативного, неклассического способа дескрипции, синергийная антропология применялась уже ко многим явлениям из этого круга: к виртуальным практикам, трансформативным телесным практикам, ориентированным к Постчеловеку, опытам новейшего «трансавангардного» искусства, феноменам религиозного экстремизма, стратегиям межконфессионального диалога и др. Надо сразу признать, что в большинстве таких применений новый способ дескрипции и новая трактовка явления лишь намечались в общих чертах, без основательной разработки, – но все же можно было удостовериться, что полученная модель валидна во всех этих областях и аппарат синергийной антропологии дает реальную возможность новой, неклассической интерпретации подобных явлений. Круг этих явлений широк, и применения такого рода продолжают развиваться; но, наряду с ними, все большее место начинает занимать разработка иных, более общих возможностей синергийной антропологии, лежащих в сфере методологии и эпистемологии гуманитарного знания.

Самый чистый и самый благородный из великих людей новой русской истории.- П.А. Флоренский Колумбом, открывшим Россию, называли Хомякова. К. Бестужев-Рюмин сказал: "Да, у нас в умственной сфере равны с ним только Ломоносов и Пушкин. Мы же берем для себя великой целью слова А.С. Хомякова: "Для России возможна только одна задача - сделаться самым христианским из человеческих обществ".Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Из истории отечественной философской мыслиОт редакции. Мы продолжаем рубрику «Из истории отечественной философской мысли» подборкой, посвященной творчеству известного историка и философа Л. П. Карсавина. К сожалению, имя этого мыслителя почти забыто, его идеи, тесно связанные с религиозно-философской традицией обсуждения важнейших проблем человеческой свободы, пониманием личности и истории, сути общественных преобразований, практически не анализировались в нашей литературе. Рукописи Карсавина «Жозеф де Местр», публикуемой впервые, до сих пор лежавшей в архиве, предпослана статья С.
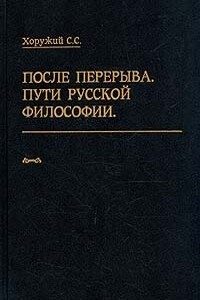
С. С. Хоружий. После перерыва. Пути русской философии. Здесь только первая часть — О пройденном: вокруг всеединстваИсточник: http://www.synergia-isa.ru.

Предмет моего доклада — проблематика междисциплинарности в гуманитарном познании. Я опишу особенности этой проблематики, а затем представлю новый подход к ней, который предлагает синергийная антропология, развиваемое мной антропологическое направление. Чтобы понять логику и задачи данного подхода, потребуется также некоторая преамбула о специфике гуманитарной методологии и эпистемологии.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H".
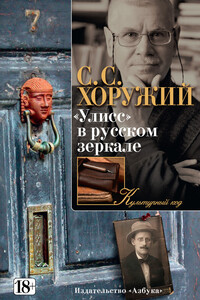
Сергей Сергеевич Хоружий, российский физик, философ, переводчик, совершил своего рода литературный подвиг, не только завершив перевод одного из самых сложных и ярких романов ХХ века, «Улисса» Джеймса Джойса («божественного творения искусства», по словам Набокова), но и написав к нему обширный комментарий, равного которому трудно сыскать даже на родном языке автора. Сергей Хоружий перевел также всю раннюю, не изданную при жизни, прозу Джойса, сборник рассказов «Дублинцы» и роман «Портрет художника в юности», создавая к каждому произведению подробные комментарии и вступительные статьи.«„Улисс“ в русском зеркале» – очень своеобычное сочинение, которое органически дополняет многолетнюю работу автора по переводу и комментированию прозы Джойса.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В настоящее время Мишель Фуко является одним из наиболее цитируемых авторов в области современной философии и теории культуры. В 90-е годы в России были опубликованы практически все основные произведения этого автора. Однако отечественному читателю остается практически неизвестной деятельность Фуко-политика, нашедшая свое отражение в многочисленных статьях и интервью.Среди тем, затронутых Фуко: проблема связи между знанием и властью, изменение механизмов функционирования власти в современных обществах, роль и статус интеллектуала, судьба основных политических идеологий XX столетия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.