Философия как живой опыт - [9]
…К 19-му веку в культуре решительно восторжествовали центробежные силы, чье действие преодолевалось раньше здоровыми центростремительными энергиями. Культурный космос постепенно теряет свое единство, свою сконцентрированность. Нарастает тенденция к пустому расширению, к распределению на плоскости, к простой смежности замкнутых в себе и самодовлеющих элементов. Из живого единства и иерархии сил культура превращается в какой-то пространный и пестрый каталог явлений. В отношении к искусству задачей времени стало: оттеснить его в узкие границы, вырвать из связи целого, лишить власти — а потом дать ему полную свободу самодовлеть и самоопределяться в изолированной среде. Для этого провозглашается «независимость искусства», что на самом деле значит: «независимость от искусства».
Процесс этот давний. Еще хитрый Кант приписал искусству особую «Zweckmässigkeit ohne Ziel»[13].
В этой «целесообразности без цели» обречено вертеться искусство, как белка в колесе. От чего только не «освободили» искусство: от заинтересованности, воли, предметности и т. д., и т. д. Создана была чудовищная фикция: безвольное, самодовлеющее, чистое эстетическое созерцание… Поистине, чтобы дойти до этого «чистого созерцания» нужны были «века пива и метафизики».
И доныне еще философы и эстеты всех толков тупо дожевывают эту пресную жвачку.
Так Эрос искусства, стремительный и жадный, подменен был каким-то скопчески бесстрастным и бесплодным «чистым созерцанием».
Если бы все это произошло только в гносеологическом стерилизованном мышлении философов — было бы лишь полбеды. Но оказалось, что само искусство покорно и даже с гордостью приняло свой удел; в нем уже давно назревала тенденция — замкнуться, спрятаться. Так что философы, собственно, лишь благосклонно санкционировали это благоразумное решение. Начинается «чистое искусство», «искусство для искусства».
Никто не имеет права вмешиваться в частные дела искусства. Оно полноправно и независимо. Но зато и ему пришлось торжественно и навсегда отказаться от всяких претензий на власть. За это ему и выдан патент на «чистое эстетическое созерцание» — своего рода удостоверение о благонадежности.
Так все мирно и благополучно устроилось, в согласии с духом девятнадцатого века…
А в 20-м поэтам стало тесно в установленных границах; они исступленно бросаются в мистику, в магию или, что еще проще — в какой-нибудь футуризм, дадаизм, сюрреализм…
Явления этого последнего порядка, конечно, вне искусства и даже — вне культуры (ибо культура начинается там, где есть преодоление, отбор, строгость), но они — совершенно неустранимый коррелят маленькой, засушенной и смирившейся поэзии. И мы, отказавшиеся от основной и исконной традиции поэзии — властвовать и учить — имеем ли мы право противопоставлять этим разнузданным мятежникам лишь пустые и случайные аксессуары традиции? Есть доля правоты в мятеже, когда «хранители традиции» занимаются выискиванием еще не видимых нюансов или мирно изготовляют кисленький лирический студень.
Искусство стало для нас освобождающим наркотиком. Мы ищем уйти, спрятаться в искусство, потеряв себя в нем. Теории о «безвольном и бесстрастном эстетическом созерцании» пришлись нам поэтому весьма кстати. Для других, искусство — некий душевный громоотвод: в его прозрачные и отрешенные сферы отводим мы из жизни все опасные и героические энергии нашего духа.
И в том и в другом случае произведение искусства является нам как самоцель, нечто в себе замкнутое, себе довлеющее, вырванное из потока жизни и становления. Но ощущение какой-то неоспоримой реальности, присущей искусству, мешает нам до конца истолковать его как «возвышающий обман» и «освобождающую иллюзию». Приходится постулировать сверхчувственные реальности, потусторонние миры, на которые искусство обязано намекать, чтобы не разрешиться в пустую иллюзию. Понимаемый статически, художественный объект может быть оправдан лишь как знак и символ.
На самом деле, реальность художественного объекта есть не реальность вещи, но реальность силы: он не указует куда-то в пустоты абсолюта, но конкретно, осязательно перестраивает живую и близкую действительность; он не сообщает, но повелевает; это — точка приложения сил, узел энергий, призванных медленно преосуществлять плоть космоса.
Эта поэма, этот сонет — лишь развернутая заклинательная формула, какое-то единство и неповторимо найденное сопряжение смыслов, сочетание слов и ритмов, властное заклясть бытие, реально овладеть им.
Здесь становится понятным основной парадокс искусства: чем строже, чем устойчивей формула, тем многообразней и динамичней воздействие. Отсюда: неправота стремления внести текучесть, движение, многосмысленность в самую формулу (это коренная ложь всякого разнуздания слова, всякого романтизма). Темные и спутанные формулы если и способны призвать к жизни какие-то энергии, то неспособны направить их. Все романтики (в том числе наши символисты) подобны гетевскому ученику волшебника, что сумел вызвать духов, но не сумел повелевать ими: поэтому вызванная сила обернулась силой опасной и разрушительной.
Так обнаруживается правота классической концепции поэзии, поскольку строгость формы есть точность магической формулы, единственно нужной, и из которой должно быть исключено все, кроме неизбежного. Но в лживом неоклассицизме разных толков строгость формы сводится к скудости, а в лучшем случае — к приятной благоустроенности.
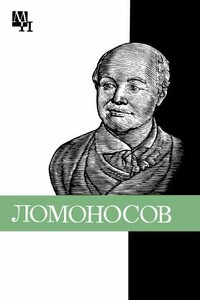
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова (1711—1765), выдающегося русского ученого, естествоиспытателя, основоположника физической химии, философа, историка, поэта. Основное внимание автор уделяет философским взглядам ученого, его материалистической «корпускулярной философии».Для широкого круга читателей.
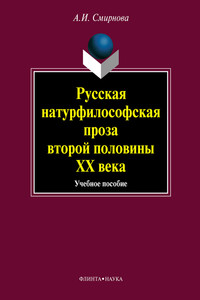
Русская натурфилософская проза представлена в пособии как самостоятельное идейно-эстетическое явление литературного процесса второй половины ХХ века со своими специфическими свойствами, наиболее отчетливо проявившимися в сфере философии природы, мифологии природы и эстетики природы. В основу изучения произведений русской и русскоязычной литературы положен комплексный подход, позволяющий разносторонне раскрыть их художественный смысл.Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов вузов.

В монографии на материале оригинальных текстов исследуется онтологическая семантика поэтического слова французского поэта-символиста Артюра Рембо (1854–1891). Философский анализ произведений А. Рембо осуществляется на основе подстрочных переводов, фиксирующих лексико-грамматическое ядро оригинала.Работа представляет теоретический интерес для философов, филологов, искусствоведов. Может быть использована как материал спецкурса и спецпрактикума для студентов.

Книга посвящена жизни и творчеству видного французского философа-просветителя Э. Б. де Кондильяка, представителя ранней, деистической формы французского материализма. Сенсуализм Кондильяка и его борьба против идеалистической метафизики XVII в. оказали непосредственное влияние на развитие французского материализма.Для широкого круга.
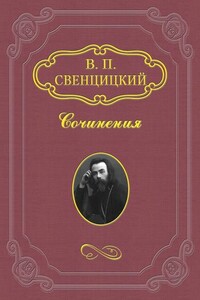
«…У духовных писателей вы можете прочесть похвальные статьи героям, умирающим на поле брани. Но сами по себе «похвалы» ещё не есть доказательства. И сколько бы таких похвал ни писалось – вопрос о христианском отношении к войне по существу остаётся нерешенным. Великий философ русской земли Владимир Соловьёв писал о смысле войны, но многие ли средние интеллигенты, не говоря уж о людях малообразованных, читали его нравственную философию…».

В монографии раскрыты научные и философские основания ноосферного прорыва России в свое будущее в XXI веке. Позитивная футурология предполагает концепцию ноосферной стратегии развития России, которая позволит ей избежать экологической гибели и позиционировать ноосферную модель избавления человечества от исчезновения в XXI веке. Книга адресована широкому кругу интеллектуальных читателей, небезразличных к судьбам России, человеческого разума и человечества. Основная идейная линия произведения восходит к учению В.И.