Философия искусства - [139]
Здесь предстают нам новые элементы или, скорее, те же, да только с иной точки зрения. Линии, очерчивающие контур тела или обозначающие в этом контуре впадины и выпуклости, сами по себе имеют значение; смотря по тому, прямые ли они или кривые, излучистые, ломаные или неправильные, они производят на нас различные впечатления. То же можно сказать и относительно составляющих тело масс; размеры их также имеют сами по себе значительную важность; смотря по разным отношениям величин, соединяющих голову с туловищем, туловище с членами, члены между собой, мы испытываем различные впечатления. У тела есть своя архитектура, и к органическим связям, соединяющим его живые части, должно присовокупить связи математические, определяющие его геометрические массы и его отвлеченный контур. В этом отношении его можно сравнить с колонной: тот или иной размер диаметра и высоты делает ее ионийской или дорической, изящной или приземистой. Равным образом та или иная пропорция голов в отношении к целому телу делает его флорентийским или римским. Стержень колонны не может быть более помноженной на себя столько-то раз толщины его; равным образом все тело в совокупности должно достичь, но отнюдь не превзойти известной сложной величины, единицею которой служит голова. Все части тела имеют, таким образом, математическую свою меру; без строгого точь-в-точь подчинения ей они, однако же, всегда колеблются около этой нормы, и все разнообразные степени колебания выражают каждая особый характер. Итак, художнику дается тут в руки новый ресурс, новое средство действия; он властен, как Микеланджело, избрать маленькие сравнительно головы и удлиненные тела, простые и монументальные линии, как Фра Бартоломмео, или извилистые контуры и разнообразные изгибы, как Корреджо. Стройные или беспорядочные группы, прямые или наклонные положения, разные планы и разные ярусы картины доставят ему и различные симметрии. Какая-нибудь фреска или картина образует квадрат, прямоугольник, круг, овал — короче, какую-нибудь часть пространства, в котором сборище людей (своей особой группировкой) составляет как бы здание. Всмотритесь на эстампах в Мученичество С в. Севастьяна кисти Баччо Бандинелли или в Афинскую школу Рафаэля, и вы почувствуете этот род красоты, которому греки дали вполне музыкальное название эрифмии (благомерности). Взгляните на один и тот же сюжет, исполненный двумя разными живописцами, — на Антиопу Тициана и на Антиопу Корреджо, и вы почувствуете различные эффекты одной чистой геометрии линий. Это новая опять сила, которую должно направлять заодно с другими и которая, если отнестись к ней небрежно или неточно, помешает характеру произведения выразиться как следует, вполне.
Я подошел теперь к последнему существенному элементу — к колориту. Сами по себе и независимо от подражательного употребления краски, точно так же, как и линии, имеют свой особый смысл, свое значение. Простая гамма красок, не изображающих никакого действительного предмета, подобно любому линейному арабеску, который не подражает в природе ничему, — эта гамма может быть богата или скудна, изящна или тяжела для зрения. Впечатление наше разнится, смотря по подбору цветов; следовательно, этот подбор уже и сам по себе выразителен. Картина есть колоритная поверхность, на которой различные тоны и различные степени света распределены с известным выбором — вот заветная ее суть; что эти тоны и эти степени освещения образуют фигуры, драпировки, архитектурные принадлежности — это уже дальнейшее их свойство, из-за которого первичное все-таки не теряет ни своей важности, ни своих прав. Итак, собственное значение краски громадно, и от того, как живописцы распорядятся ею, зависит все остальное их произведение. Но в этом элементе заключено еще несколько других, прежде всего — общая степень света или темноты; Гвидо любит белое, серебристо-серое, пепельное, бледно-голубое, он пишет все в полном освещении. Караваджо любит черное, угольно-бурое, напряженное, землистое — он все пишет в густой тени. С другой стороны, противоположность светов и теней в одной и той же картине может быть более или менее сильна и более или менее скрадена. Вы знаете, с какою нежною постепенностью форма у да Винчи незаметно выделяется из среды теней, с какою очаровательною постепенностью у Корреджо яркая полоса света выступает из общего освещения, с каким ослепительным блеском у Риберы вспыхивает вдруг светлый тон во мрачной мгле, в какой сырой и желтоватый воздух Рембрандт устремляет вдруг проблеск солнца или пропускает какой-нибудь затерявшийся трепетный луч. Наконец, помимо степени освещения, разные тоны, смотря по тому, служат ли они дополнением друг другу или нет, имеют свои диссонансы и созвучия[138]; они или вызывают, или же, напротив, исключают друг друга; цвета оранжевый, фиолетовый, красный, зеленый и все прочие, сами по себе или в смеси, образуют своим соседством, точно так же, как музыкальные ноты своей последовательностью, особенного рода гармонию, полную и сильную, или терпкую и жесткую, или же нежную и мягкую. Посмотрите в Лувре, в Эсфири Веронезе, на очаровательный ряд желтоватых оттенков, как все они — то бледные, то темные, серебристые, красноватые, зеленоватые, похожие на аметист и всегда умеренные, нигде не резкие — вливаются одни в другие, начиная с цвета полевого нарцисса и светло-соломенного до цвета блеклых листьев и дымчатого топаза; или в Святом семействе Джорджоне обратите внимание на могучие красные оттенки, которые, начиная чуть не черным багрянцем драпировки, идут, все разнообразись и постепенно светлея, местами отдавая на плотном теле в желтизну, дрожат и скользят в промежутках пальцев, одевают, будто бронзой, мужественную грудь и, пропитываясь то тенью, то светом, обливают, наконец, лицо одной молодой девушки целым потоком заходящего солнца; вы поймете всю могучую выразительность подобного элемента. По отношению к фигурам он то же самое, что для пения аккомпанемент; мало того, он подчас сам бывает пением, а фигуры выходят при нем только аккомпанементом; тут из придаточного он становится уже главным. Но имеет ли элемент краски значение побочное, главное или просто одинаковое с остальными, во всяком случае очевидно, что это отдельная совсем сила и что для выражения какого бы то ни было характера эффект этого важного элемента непременно должен согласоваться с другими эффектами.

Интеллектуальная автобиография одного из крупнейших культурных антропологов XX века, основателя так называемой символической, или «интерпретативной», антропологии. В основу книги лег многолетний опыт жизни и работы автора в двух городах – Паре (Индонезия) и Сефру (Марокко). За годы наблюдений изменились и эти страны, и мир в целом, и сам антрополог, и весь международный интеллектуальный контекст. Можно ли в таком случае найти исходную точку наблюдения, откуда видны эти многоуровневые изменения? Таким наблюдательным центром в книге становится фигура исследователя.
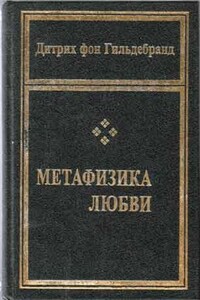
«Метафизика любви» – самое личное и наиболее оригинальное произведение Дитриха фон Гильдебранда (1889-1977). Феноменологическое истолкование philosophiaperennis (вечной философии), сделанное им в трактате «Что такое философия?», применяется здесь для анализа любви, эроса и отношений между полами. Рассматривая различные формы естественной любви (любовь детей к родителям, любовь к друзьям, ближним, детям, супружеская любовь и т.д.), Гильдебранд вслед за Платоном, Августином и Фомой Аквинским выстраивает ordo amoris (иерархию любви) от «агапэ» до «caritas».
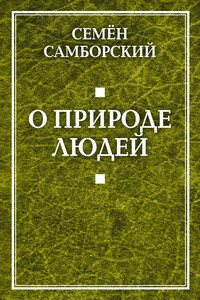
В этом сочинении, предназначенном для широкого круга читателей, – просто и доступно, насколько только это возможно, – изложены основополагающие знания и представления, небесполезные тем, кто сохранил интерес к пониманию того, кто мы, откуда и куда идём; по сути, к пониманию того, что происходит вокруг нас. В своей книге автор рассуждает о зарождении и развитии жизни и общества; развитии от материи к духовности. При этом весь процесс изложен как следствие взаимодействий противоборствующих сторон, – начиная с атомов и заканчивая государствами.
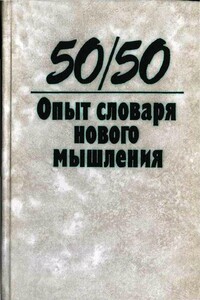
Когда сборник «50/50...» планировался, его целью ставилось сопоставить точки зрения на наиболее важные понятия, которые имеют широкое хождение в современной общественно-политической лексике, но неодинаково воспринимаются и интерпретируются в контексте разных культур и историко-политических традиций. Авторами сборника стали ведущие исследователи-гуманитарии как СССР, так и Франции. Его статьи касаются наиболее актуальных для общества тем; многие из них, такие как "маргинальность", "терроризм", "расизм", "права человека" - продолжают оставаться злободневными. Особый интерес представляет материал, имеющий отношение к проблеме бюрократизма, суть которого состоит в том, что государство, лишая объект управления своего голоса, вынуждает его изъясняться на языке бюрократического аппарата, преследующего свои собственные интересы.

Жанр избранных сочинений рискованный. Работы, написанные в разные годы, при разных конкретно-исторических ситуациях, в разных возрастах, как правило, трудно объединить в единую книгу как по многообразию тем, так и из-за эволюции взглядов самого автора. Но, как увидит читатель, эти работы объединены в одну книгу не просто именем автора, а общим тоном всех работ, как ранее опубликованных, так и публикуемых впервые. Искать скрытую логику в порядке изложения не следует. Статьи, независимо от того, философские ли, педагогические ли, литературные ли и т. д., об одном и том же: о бытии человека и о его душе — о тревогах и проблемах жизни и познания, а также о неумирающих надеждах на лучшее будущее.
